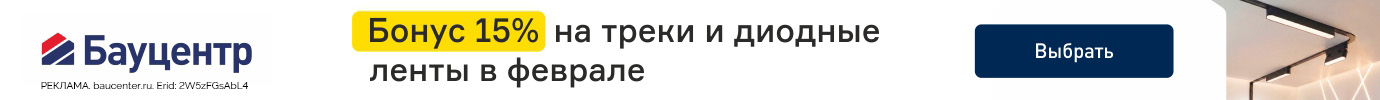/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
«Где-то будут меняться команды, где-то — руководители»

Уроженец Красноярского края Сергей Дмитриев возглавил Министерство здравоохранения Калининградской области в августе 2024 года. Руководитель регионального минздрава убежден, что сегодня у калининградских учреждений здравоохранения хватает ресурсов, чтобы нормально работать. Однако сложившаяся организация медпомощи всё еще вызывает «ряд вопросов».
В интервью RUGRAD Сергей Дмитриев рассказал о своем бэкграунде, свободном рынке труда медиков, слетающей информационной системе, реалиях закупок по 44-му федеральному закону и сложной эмоциональной ситуации после арестов экс-заместителя и начальника отдела.
«Картинка получалась очень хорошая»
— Как вы оказались в Калининградской области?
— Насколько я понимаю, часть моей биографии уже немного известна здесь. После окончания интернатуры я начал работать анестезиологом-реаниматологом, затем заведующим отделением, позже — заместителем главного врача и исполняющим обязанности руководителя учреждения. Это логический путь, который проходит практически каждый руководитель в медицине, если выбирает для себя путь управленца. Затем я работал в департаменте здравоохранения Томской области. Два года был руководителем частной медицинской организации. За это время посмотрел немного с другой стороны на здравоохранение, отметил, что можно было бы изменить в государственной системе, применяя инструменты из практики частной медицины. Главный плюс, который необходимо перенимать нам и прививать нашим сотрудникам, — это клиентоориентированность.
— Проще говоря, необходимо учить медиков быть приветливыми?
— Приветливыми и внимательными. Внимательности нашим сотрудникам, в принципе, не занимать, но создать комфортные эмоциональные условия для пациента на всех этапах получения помощи — вот что необходимо.
Если продолжать о карьере, то со времени работы в департаменте здравоохранения Томской области я находился в федеральном кадровом резерве и по рекомендации Минздрава России был предложен в Калининградскую область. После встречи с министром здравоохранения РФ Алексей Сергеевич Беспрозванных пригласил меня работать в регионе.

— Что слышали о Калининградской области и нашем здравоохранении до того, как приехали?
— Когда я планировал уже сюда ехать, то общался с коллегами из федерального Минздрава, задавал вопросы. Из их ответов образ складывался в целом положительный. Звучало, что в Калининградской области система настроена, структура организации медицинской помощи выстроена, много хорошего я слышал и об информационной системе. На федеральном уровне министр здравоохранения Александр Кравченко делал доклады на эту тему, так что картинка получалась очень хорошая.
— Рушиться она не начала при переезде?
— Безусловно, есть вопросы, на которые стоит обратить внимание в организации медицинской помощи. Понятно, что не всё идеально, но мне и не хотелось бы говорить, что всё плохо, и не могу сказать так. В большей степени внимания вопросы связаны именно со структурой системы, со стандартными организационными процессами, с общим пониманием маршрутизации, которое нужно внедрить во всех медицинских организациях. Путь пациента должен быть отработан, настроен, утвержден и должен выполняться.
«У нас определенно есть сложности с записью к врачам»
— 2025 год начался с визита главы федерального минздрава Михаила Мурашко. Что означает этот визит для региона и какие изменения несет в организации помощи жителям?
— Михаил Альбертович уже неоднократно бывал в Калининградской области и теперь посетил новые открывшиеся учреждения: онкологический центр (его загрузку министр назвал недостаточной. — Прим. ред.) и поликлинику в Калининграде, в микрорайоне Сельма (открылась в ноябре прошлого года после четырех лет строительства. — Прим. ред.). Вместе с министром в регион приехали руководители федеральных научно-исследовательских центров Минздрава России. Каждый из них специализируется на одном направлении, например, на помощи детскому населению, онкологии, кардиологии, — и курирует профильную работу в регионах. В Калининградской области НМИЦ ведется работа по множеству направлений: родовспоможению, кардиологии, онкологии, реабилитации, помощи детскому населению, а также по психиатрии и наркологии. Руководители центров знакомятся с учреждениями, смотрят, как организованы профильные службы, обозначают проблемные вопросы и вносят экспертные предложения по их решению.
В ходе этого визита федеральные коллеги предложили создать ситуационный центр мониторинга работы с пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В нашем регионе и во всей стране заболевания системы кровообращения остаются ведущей причиной смертности. И в то же время, на мой взгляд, в регионе отсутствует специализированное подразделение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, за теми, кто уже перенес сосудистую катастрофу — инфаркт или инсульт.
В регионе отсутствует подразделение диспансерного наблюдения за теми, кто перенес инфаркт или инсульт.
Ситуационный центр должен обеспечивать специализированный прием кардиологических пациентов и далее направлять их или на стационарное лечение, или под амбулаторное наблюдение для получения лекарственных средств. Такое подразделение создается на базе Калининградской областной клинической больницы. Уже есть опытный руководитель, и мы надеемся запустить центр мониторинга рисков сердечно-сосудистых заболеваний уже в феврале этого года.
Коллеги также обратили внимание на то, что у нас ведется работа по обеспечению пациентов «кардиопакетом». Это лекарства, которые выдают пациентам, перенесшим плановые или экстренные операции на сердце и сосудах, на первое время после выписки. Далее препараты выдаются уже по месту прикрепления в поликлинике. Собственно, этот путь должен быть бесшовным для пациента, а у нас пока есть сложности с преемственностью между стационаром и поликлиникой. Поэтому в обеспечении лекарствами возможны перерывы, которых необходимо максимально избежать.
— В регионе нередко возникают замечания по лекарственному обеспечению.
— Мы, безусловно, в курсе, отслеживаем их по всем каналам. Я лично смотрю в социальных сетях комментарии, которые возникают под постами, где люди сообщают о том, что не могут записаться на прием к специалистам или получить медицинскую помощь. Точечно по каждому пациенту работа ведется. Однако, чтобы система работала не в ручном режиме, а стандартизовано, в масштабе и по отношению к каждому человеку, мы и запускаем проекты в сопровождении федеральных центров.
Сейчас задача стоит в принципе максимально стандартизовано настроить все крупные процессы в системе по каждому профилю, и дальше уже будем докручивать эти сложные процессы по замечаниям, которые возникают на практике.
— Вы говорите, что процесс обеспечения пациентов не является «бесшовным», что пациент может «потеряться» при переходе с одного уровня наблюдения на другой. Это ставит вопрос о том о том, насколько хороша та система информатизации здравоохранения, цифровизации всех сервисов записи.
— Информационная система здравоохранения в Калининградской области, если сравнивать ее с другими регионами России, находится на достаточно хорошем уровне. Собственно, работа, которая была проведена предыдущим руководством области, Минздрава и МИАЦ (медицинского информационно-аналитического центра), сделана очень качественно.
Для пациентов организована система записи, мобильное приложение и вся электронная инфраструктура. У нас определенно есть сложности на той стороне, где должно быть открыто расписание, доступен и понятен клиентский путь, который можно пройти с положительным результатом, то есть записаться к врачу. Это связано, прежде всего, с кадровым вопросом.

«У нас не крепостное право, а свободный рынок труда»
— Этот вопрос возникает как будто с каждым новым годом всё острее (в 2023 году дефицита персонала в региональном здравоохранении достиг 1,7 тыс. человек. — Прим. ред.), хотя меры привлечения специалистов, согласно заявлениям руководства региона, только усиливаются. Как решить кадровый вопрос?
— Мы работаем над его решением. В прошлом году баланс между количеством тех врачей, которые ушли из работы в государственном здравоохранении, вышли на пенсию или переехали в другой регион, и теми, кто трудоустроен, был положительный. По врачам мы в плюсе на 150 человек.
Наша задача на текущий год — это укрепление амбулаторного звена: укомплектовать участковыми терапевтами и узкими специалистами. Для чего и необходимо создание кардиологического амбулаторного подразделения, где в одном учреждении специалисты работают и могут организовать поток пациентов на консультацию. Основной дефицит врачей, в принципе, складывается в районах. Пациенты направляются для консультации в Калининград, и, чтобы организовать помощь в полном объеме, нам необходимо сконцентрировать специалистов в одном учреждении.
Что касается привлечения специалистов, то в 2025 году 590 млн руб. заложено в бюджете на кадровую программу. Это и компенсация найма жилья, и оплата подъемных при первом трудоустройстве, и помощь при переезде. Такие меры поддержки, как есть в Калининградской области, может позволить себе не каждый регион. Они есть, к примеру, на Крайнем Севере, но поверьте, что условия жизни и труда там отличаются по сравнению с Калининградом.
— Тем не менее у нас меры поддержки есть и существуют не первый год, но кадровый дефицит сохраняется. Что же не так с инструментами привлечения специалистов?
— Меры поддержки реальны и работают. Просто часть сотрудников выбывают из системы, на их места привлекаются новые. Сейчас у нас по целевым направлениям обучаются больше 1000 студентов и ординаторов в медицинских вузах.
С учетом того, что программа целевого обучения начала активно работать как раз 4–5 лет назад, то каждый год мы сейчас будем получать выпускников, которые и будут нам «закрывать» потребности первичного звена. Сейчас это студенты, которые заканчивают шестой курс и должны прийти в поликлиники, в приемные покои, на станции скорой помощи. (В соответствии с требованиями «Профессионального стандарта для работы в качестве врача скорой медицинской помощи» теперь требуется получение дополнительного образования или ординатуры по направлению «Скорая помощь». То есть одного диплома медицинского вуза для трудоустройства на СМП в качестве врача недостаточно. — Прим. ред.).
Понятно, что это будут пока молодые, начинающие специалисты, но по выпуску у них уже есть компетенции, которые позволяют работать в амбулаторном звене. В Калининградской области для этого есть все условия — до названных мною мер поддержки.
— Те врачи, что впервые трудоустраиваются в регионе, — сколько из них уже выпускников-целевиков, а сколько специалистов из других регионов?
— С этого года, я полагаю, целевики составят 60 %, а врачи из других регионов и стран — остальные 40 %. Понятно, что мы будем привлекать специалистов по определенным направлениям, а также опытных сотрудников, которые могут помогать молодым и организовывать новые направления работы.
— Насколько это этично, привлекать в регион специалистов из других регионов? Ведь если мы приглашаем специалиста из условной Новосибирской области, он перестает работать там, оставляет какое-то направление.
— У нас ведь не крепостное право. В России есть свободный рынок труда, и работодатель должен привлечь сотрудника, создать для него условия. Поэтому работа и продолжается в том формате.
— В то же время в регионе есть врачи, приехавшие в регион ранее, работающие по 10–20 лет и более. Эта категория специалистов не подпадает под большинство мер поддержки, но они могут учить молодых специалистов, они могут решать и организационные задачи. Как планируете работать с ними?
— Первоначально мы делаем ставку, конечно, на собственных опытных, зарекомендовавших себя специалистов. У нас нет самоцели привлечь вообще всех специалистов из других регионов. Эта работа необходима, чтобы в максимально короткие сроки укомплектовать медицинские организации, где есть недостаток кадров.
У нас нет самоцели привлечь вообще всех специалистов из других регионов.
В регионе в целом работает кадровая программа формирования «скамейки запасных» для врачей, которые имеют желание, возможность двигаться дальше и которым будут предлагать в том числе руководящие должности. Первый этап — это заведывание отделением, кто-то будет привлекаться в качестве главного внештатного специалиста в зависимости от профиля, опыта работы и знаний. Поэтому основная задача — увидеть в учреждении «звездочек», молодых и постарше, людей с горящими глазами и желанием помогать людям.
— Встречаете их в учреждениях региона или там в основном уже всё «потухло»?
— Вижу, конечно. На самом деле такие люди есть, готовы помогать, выполнять работу на должном уровне. Просто не всегда их удается разглядеть вовремя, и наша задача тут вместе с руководством учреждений — выявлять инициативных специалистов.
«Все методы кадровой работы объективно известны»
— Упомянутая «скамейка запасных» из местных специалистов — это главный кадровый ресурс минздрава или у вас есть еще команда, на которую можно опереться?
— Местные специалисты, главные врачи, которые сегодня в строю, — в первую очередь опираюсь на них. Затем в любом случае с учетом задач, которые стоят перед нами, команда постоянно будет меняться. Возможно кто-то не готов в той или иной степени реализовывать необходимые проекты, поэтому команда — это такой живой организм, который будет обновляться.
Где-то будут меняться команды, где-то — руководители. Если практика покажет, что руководитель справляется, значит, он будет работать и повышать компетенции для решения новых задач. Выделять кого-то отдельно из персон руководителей, главных врачей, мне бы не хотелось и не хотелось бы никого обидеть. В любом случае те задачи, которые перед нами ставит губернатор, требуют изменений.
— Например, одна из таких задач — совершенствование онкологической службы. Чего здесь ждать?
— Здесь будут реализованы несколько проектов, которые должны упорядочить и стандартизировать работу от раннего этапа выявления пациента с онкологическим заболеванием на ранней стадии до собственно онкологической помощи. Сегодня этот клиентский путь от первого обращения до получения специализированной койки не лишен ситуаций, когда людям приходится обращаться за помощью в личном порядке вплоть до уровня губернатора.
Мы хотим, чтобы всё это происходило четко, по шаблону. Чтобы у терапевтов на приеме была онконастороженность, чтобы врач мог сразу сам направить пациента на дальнейший прием у специалиста, а не дал направление или «талончик», чтобы человек сам искал, где и куда ему обратиться, чтобы получить помощь. Запись должна делать сама медицинская организация, а пациент через нее получать весь свой маршрут: где какие анализы когда ему сдать, какого врача посетить, чтобы уже получить саму медицинскую помощь.
Здесь снова касаемся кадрового вопроса по наполнению специалистами онкологического центра, второй кадровый вопрос — комплектация центров амбулаторной онкологической помощи. Таких центров в регионе 5, и, проходя через них, человек уже получает на выходе полный комплект документов для направления в онкоцентр. Вот эти процессы нам необходимо настроить. Курировать эту работу должен онкологический центр как учреждение III уровня. Здесь создан организационно-методический отдел. Да, пока он еще не укомплектован кадрами, но перед руководителем учреждения поставлена задача отслеживать весь клиентский путь за каждым пациентом и влиять на показатели выявляемости заболеваний и получения специализированной медицинской помощи.
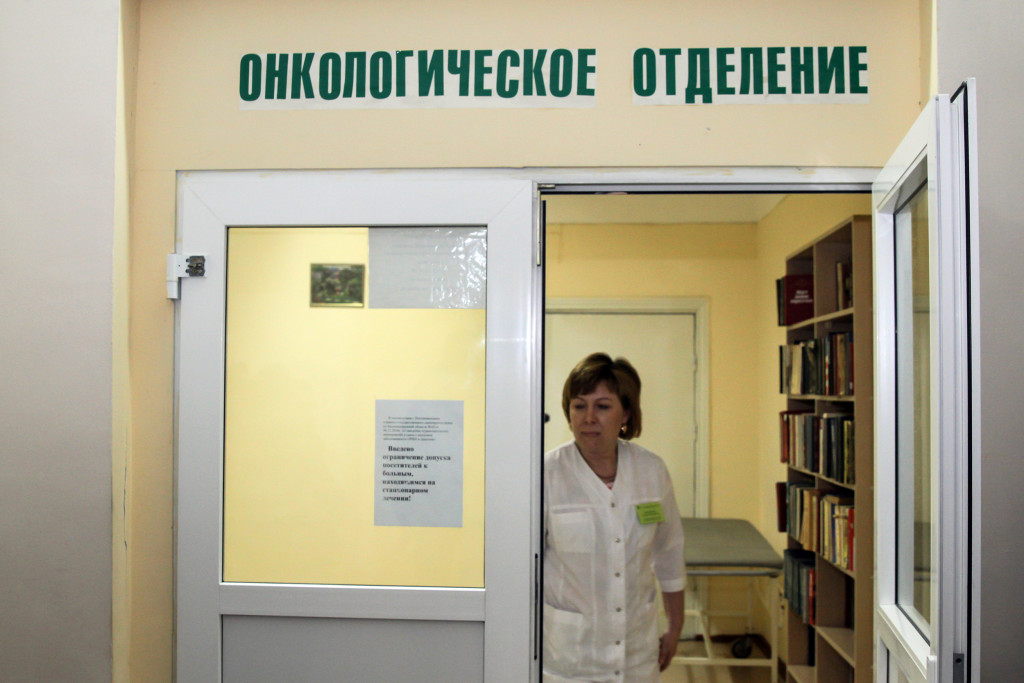
— Верно ли, что если к какому-то сроку эти задачи выполнены не будут, то возможна замена руководителя?
— Все методы кадровой работы объективно известны.
— Есть ли сейчас цель всю специализированную онкологическую помощь оказывать внутри региона или ряд пациентов будут направляться в Петербург, Москву, другие регионы в рамках федеральных квот?
— Я не перечислю сейчас все формы заболевания, при которых пациентам будет необходима помощь за пределами региона. Но цель онкологического центра — предложить все условия для всех пациентов онкологического профиля, вне зависимости от локализации, стадии заболевания. Наша задача — увеличить его мощность и настроить маршрутизацию. Онкологический центр для этого подготовлен.
За его пределами пока остается отделение онкогематологии в составе ЦГКБ, его перевод на базу онкоцентра пока под вопросом. И на базе Областной клинической больницы проводится ряд операций онкологического профиля. Эти виды помощи в перспективе будут также сосредоточены в Родниках.
Мы полностью обеспечили оказание помощи пациентам, но в регионе действительно нет такого диагностического оборудования, как ПЭТ-КТ. Главная сложность — в том, чтобы получить препарат для этого исследования и обеспечить загрузку оборудования. Жизненный цикл у радиофармпрепарата составляет до 4 часов. За это время он должен быть доставлен от производства до места использования. Если сроки превышаются, то качество препарата меняется. Поэтому для проведения этого исследования пациенты по маршрутизации сейчас направляются за пределы региона.
Хотелось бы отметить, что кроме онкологического центра в регионе есть центры оказания высокотехнологичной и специализированной помощи, другое их название — «учреждения третьего уровня». Это Областная больница, Больница скорой медицинской помощи с профилем по нейрохирургии, Детская областная больница, где предусмотрены все виды помощи детям, кроме инфекционного стационара. Соответственно эти учреждения будут ответственны за оказание медицинской помощи пациентам по своему профилю и должны будут вести их мониторинг. Нельзя сказать, что эта работа учреждениями совсем не проводилась. Возможно, у коллег было другое ее видение. Но теперь подход определен.

«Логистика приводит к существенным наценкам»
— На 2025 год Михаил Мурашко пообещал Калининградской области увеличение финансирования здравоохранения по программе государственных гарантий на 3,3 млрд руб. Это больше, чем финансирование нацпроектов, о которых мы упоминали. Какие виды медицинской помощи планируется расширить за счет этих средств?
— Это дополнительные средства на реабилитацию: и по кардиологическому профилю, и для ребят из зоны СВО, в том числе и реабилитация пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и до сих пор ее последствия отражаются на их здоровье. Часть средств распределена по профилю онкология на стационарную и стационар-замещающую помощь, дневные стационары и, конечно, на амбулаторное звено и диагностические исследования.
Задача стоит представить максимальный спектр медицинских услуг населению в Калининградской области, чтобы не было необходимости у людей обращаться в медицинские организации других регионов, чтобы получить ту помощь, которая доступна на нашей территории. Поэтому сегодня финансовая возможность работать, вести хозяйственную деятельность у организаций есть. Я не говорю, может быть, о процессах, требующих значительных вложений, как ремонт, например, но текущую деятельность вести возможно.
— То есть инвестиционный климат в сфере государственного здравоохранения скорее благоприятный?
— Он достаточный для выполнения задач, которые стоят перед системой здравоохранения.

— Что касается глобальных процессов, в 2024 году закончился срок реализации национальных проектов, которые предусматривают федеральное финансирование для здравоохранения региона. Как они трансформируются теперь? Сохранит ли регион эту целевую поддержку?
— Регион, безусловно, сохраняет федеральную поддержку, поскольку в этом году еще продолжается нацпроект «Модернизация первичного здравоохранения». Мы начинаем в этом году участвовать в новых национальных проектах. Первый называется «Продолжительная и активная жизнь» и второй — «Семья». Это новые проекты, наша потребность в мероприятиях по этим проектам определена, ревизия проводилась в регионе в прошлом году. Наша заявка была направлена на согласование в Минздрав России. В основном наши пожелания были учтены. По итогу часть мероприятий будет осуществлена за счет регионального бюджета, на что-то будет предоставлено федеральное финансирование.
В общей сложности на мероприятия нацпроектов запланировано 2,18 млрд руб. для региона на ближайший год. В том числе 1,385 млрд руб. — это средства именно федерального бюджета. На эти средства в том числе мы готовимся приобрести порядка 80 единиц оборудования, 6 автомобилей для амбулаторного звена в 2025 году. Конкурсные процедуры мы подготовили еще в декабре и сейчас ждем доведения средств, чтобы приступить к работе по ключевым целям нацпроекта максимально быстро.
Во многом направления новых нацпроектов схожи с теми, которым мы уделяли внимание до 2024 года. Это и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и приобретение дополнительного оборудования, и информатизация здравоохранения, и закупка лекарств «кардиопакета». Сохраняются меры поддержки пациентов с сахарным диабетом: дети и беременные женщины будут получать системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, в том числе это будут приборы отечественного производства, будет продолжена работа пациентских школ диабета. Ведь во многом качество жизни пациента с этим диагнозом зависит от его образа жизни, правильных привычек и внимания к изменениям самочувствия. Контролировать многие моменты учат именно в пациентских школах.
— Когда говорим о закупках оборудования, то сложно удержаться от примера: в одной из больниц региона, закупивших медоборудование за условные 2 млн руб. бюджетных средств, обнаружили документы, где отпускная стоимость в два раза меньше. То есть практически, когда мы говорим, что на оборудование направляется условно 40 млн руб., приобретается на него оснащение условно стоимостью 20 млн руб. за счет издержек. Что можно улучшить, чтобы сделать процесс расходования более эффективным?
— Мы прибегаем к методике совместных закупок с тем, чтобы на конкурс выходило большее количество поставщиков оборудования, лекарственных средств или автомобилей. Мы используем мониторинг Росздравнадзора по уровню предельных цен на оборудование. Не стоит забывать, что закупки мы проводим по требованию Федерального закона №44, который предписывает выбор поставщика с наименьшей ценой. С учетом всего этого, возможно, географическое положение области и логистика сюда приводит к существенным наценкам и тому, что цена оказывается выше, чем в других регионах. И здесь, работая в правовых рамках, мы можем только в них оставаться и смотреть в сторону укрупнения сделок.
«В прошлом году два раза полностью слетела медицинская информационная система»
— Нет ли в сложившейся ситуации идеи снова укрупнять медицинские учреждения? На побережье есть практика создания межрайонной больницы, в то же время на востоке области в каждом муниципалитете есть своя больница. При этом руководители учреждений порой исполняют обязанности главных врачей и в соседних районах.
— На самом деле логика укрупнения, может быть, и правильная. И положительные моменты здесь есть: экономия средств, пусть не самая значительная, на административно-управленческом персонале, возможность маршрутизации пациентов между больницами соседних поселений. Но есть и другая сторона — управляемость. И чем больше медицинская организация, тем она сложнее. Тем более, они находятся в разных населенных пунктах. Реализуя эти проекты, нам важно не упустить управляемость системы. Зачастую при укрупнении мы рискуем потерять в качестве.
Поэтому мы идем по пути логичного территориального планирования, объединяя организации там, где это возможно без ущерба. Так, в Черняховске проходит этап объединения (все три больницы муниципалитета возглавляет один главврач. — Прим. ред.), чтобы сократить количество шагов для пациентов, чтобы им не приходилось ходить по кругу.
Уже объединена служба скорой помощи, что логично и оправданно, наркологической помощи, хотя здесь еще есть недоработки в части наблюдения за пациентами. Тем не менее самое главное — это взаимодействие, и его возможно настроить с учетом того, какой компактный у нас регион.
— Упомянутый сервис записи «Медрег39» — регулярно поступают сообщения, что он то сутками не работает, то аннулируются записи, сделанные пациентами через него с большим трудом. Что с ним не так?
— В целом у нас в прошлом году два раза полностью слетела медицинская информационная система БАРС. Чтобы этого избежать, были проведены технические работы, установлено резервное оборудование. Это на самом деле было чрезвычайной ситуацией для системы здравоохранения. Мы ведь почти полностью перешли на электронный документооборот.
Я и сам, когда приехал, задавал в поликлиниках вопросы, зачем эти картотеки, эти карточки, ведь уже в электронном виде можно передавать информацию и экспертам, и заключения пациентам. Разве что получать информированное согласие нужно в бумажном виде, и то, уже есть сервисы электронной подписи. А в ситуации, когда БАРС был недоступен, я понял, что не надо торопиться, что нужно сохранить на какое-то время бумажные карточки.
Ситуации, когда на уровне поликлиники «слетает» запись, и пациент о ней не знает, и никто не принимает его, — от этого необходимо уйти. Я сторонник обязательного обзвона пациентов за два дня до приема, накануне приема, это должно происходить во всех учреждениях в 100 % случаев. И если по итогам обзвона запись освобождается, то она должна отразиться в системе «Медрег», чтобы ей могли воспользоваться пациенты.

— Предыдущий руководитель минздрава как-то сравнивал больницы региона с музеями: многие находятся в зданиях, построенных задолго до 1945 года. Как смотрите на эту особенность?
— Некоторые учреждения действительно находятся в приспособленных помещениях и сегодня оказываются не соответствующими современным требованиям санитарных норм и правил.
— В этой связи не будут ли закрываться такие учреждения? В Калининграде обсуждается информация о том, что Дом сестринского ухода на ул. Дубинина прекратит свою работу.
— Я знаю это учреждение, был там. Действительно, с учетом требований пожарной безопасности пациенты данного профиля, пациенты, которые не могут передвигаться самостоятельно, будут перераспределены на площади других учреждений, где условия уже созданы. Сейчас ведется подготовка маршрутизации. С учетом требований пожарной безопасности это необходимо сделать. Само же здание останется в системе здравоохранения, здесь будут получать медицинскую помощь более мобильные пациенты.
Само здание бывшего Дома сестринского ухода на ул. Дубинина останется в системе здравоохранения, здесь будут получать медицинскую помощь более мобильные пациенты.
Что касается других учреждений в приспособленных исторических зданиях, то часть помещений мы будем ремонтировать, где возможно — проводить реконструкцию. Все руководители должны выполнять текущие ремонты своими силами или с привлечением средств областного бюджета, если необходимо. Задача перед каждым из главврачей поставлена понятная: сделать, как у себя дома, и поддерживать чистоту и порядок в учреждениях.

Бывший Дом сестринского ухода на ул. Володи Дубинина, 24 в Калининграде. Фото: "Яндекс.Панорамы"
— Есть мнение, что для этого главный врач должен постоянно быть в кабинете у министра здравоохранения, «стоять на коленях» у губернатора и напоминать о себе. Главные врачи эту инициативу уже проявляют или пока делают вид, что в каждой больнице всё отлично?
— Нет таких руководителей, которые считают, что всё хорошо. Их задача — обращаться к нам, формировать вместе заявки в бюджет региона. Но я уверен, что наведение элементарного порядка в учреждении — то, что должно быть сделано в первую очередь, — может делаться силами каждого сотрудника медицинской организации. Не говорю о капитальном ремонте, но поддержание порядка — это то, что должно делаться силами хозяйственного блока каждой организации.
— Сейчас на эти цели у каждой поликлиники и больницы есть ресурсы?
— Возможности поддерживать порядок и соблюдать СанПиНы есть у каждого учреждения. Для более серьезного ремонта, капитальных работ, понятно, такие ресурсы могут быть только при поддержке регионального бюджета или федерального. Но на эти цели выделяются средства. Понятно, что едва ли мы сможем сделать это в полном объеме и за один год, но постепенно сможем.
Учреждения уже составили свои паспорта медицинской организации с данными о возрасте организации, перечнем имеющегося оборудования для федерального регистра медицинских организаций. На основании паспортов мы формируем график ремонтов, эти данные учитываются при составлении федеральных проектов. Сейчас мы вместе со специалистами министерства цифрового развития создаем платформу для интерактивного мониторинга за хозяйственной деятельностью каждого учреждения. Она позволит пройти до каждой больницы, до каждого фельдшерско-акушерского пункта и увидеть, что там работает, кто там работает, когда какому специалисту нужно повышать квалификацию, когда у него подходит срок выхода на пенсию, когда необходима замена оборудования. Такой мониторинг нужен для стратегического планирования, грамотного подхода к управлению организацией и системой в целом.
«План хозяйственной деятельности не может быть отрицательным»
— У темы повышения квалификации медицинских работников есть и другой аспект: врачи-специалисты раз в несколько лет обязаны проходить обучение и подтверждать свою квалификацию особым сертификатом. Такая учеба — дело достаточно дорогое, если врач настроен владеть своей специальностью на современном уровне, и затраты ложатся преимущественно на самого специалиста. Должны ли больницы или министерство участвовать финансово в повышении квалификации своих сотрудников в этой ситуации? Стимулировать их?
— В своей практике за пределами Калининградской области я был свидетелем ситуации в одной из районных больниц. Один из опытных специалистов обратился к нам с критикой системы непрерывного медицинского образования (НМО — система дистанционного обучения врачей и среднего медперсонала работе по клиническим рекомендациям. Курсы включают теорию и тесты в онлайн-режиме. Успешное выполнение заданий дает допуск к регулярной аккредитации, без которой работать в системе здравоохранения нельзя. — Прим. ред.). Это был уже опытный состоявшийся врач, и его не устраивало не столько то, что для НМО необходимо работать с компьютером, сколько то, что он утратил возможность раз в 5 лет куда-то выехать и там заниматься повышением своего квалификационного уровня. Тогда на уровне департамента мы нашли как будто способ, обучили всех работать с персональным компьютером. Но и это не устроило сотрудников: «Мы не хотели работать на персональных компьютерах, мы хотели, чтобы вы нас отправили на обучение. Сами поездки были важнее».
На мой взгляд, существующая система обучения врачей, в принципе, оправдана. Каждый специалист должен постоянно знакомиться с клиническими рекомендациями, которые есть. Я понимаю, что у врача где-то может не быть на это времени из-за занятости, но клинические рекомендации, их использование носит обязательный характер. Поэтому прохождение НМО просто необходимо.

— А другие виды повышения квалификации — настроено ли министерство поддерживать их? Если, конечно, для этого есть финансовые возможности.
— Каждая больница имеет возможность сейчас за счет средств нормированного страхового запаса фонда ОМС оплачивать курсы НМО по определенным специальностям. Кроме того, в каждой организации есть график прохождения специалистами сертификации. И это обучение — благо. Не стоит воспринимать это как дополнительную и чрезмерную нагрузку на врача.
В целом, если врач настроен получить новые знания, повысить квалификацию, мы действительно принципиально готовы в рабочем порядке помочь ему. Это может быть форма обучения на рабочем месте или подбор соответствующего цикла. Вернусь к началу нашей беседы: специалисты из федеральных центров Минздрава готовы в этом помогать. Здесь должно быть желание самого специалиста. И в таком случае мы готовы помочь повысить квалификацию — только если врач замотивирован и если у нас есть потребность в компетенциях, которые может привлечь этот специалист в ту организацию, где он работает.
Готовы помочь повысить квалификацию, только если врач замотивирован.
— Если верить сообщениям прокуратуры, то финансовые возможности больниц не очень велики, и названия учреждений регулярно звучат в контексте накопления ими задолженности перед поставщиками или неоплат. В чем здесь ошибка? В системном планировании?
— Несколькими годами ранее у большинства медицинских организаций была просроченная кредиторская задолженность. Особенно остро эта ситуация проявилась в период пандемии коронавируса, когда нужно было закупать лекарственные препараты, средства защиты. По итогам 2024 года таких учреждений осталось только два
(Региональный перинатальный центр и Гвардейская районная больница. — Прим. ред.). Здесь имел место накопительный эффект.
Каждая больница в конце года утверждает план своей хозяйственной деятельности. Этот план не может быть отрицательным. Соответственно, доходы и расходы организации должны идти в соответствии с этим планом. Если медицинская организация недозаработала средства, значит, она не выполнила свой план. Возможности для привлечения средств есть, к примеру, выполнить план по диспансеризации — привлекли средства, которые можно распределить на расходные статьи. Со стороны больницы важно создать для пациента условия, пригласить его в поликлинику, а его задача — прийти на профилактические мероприятия.
С Национальным институтом качества Росздравнадзора мы подписали соглашение о реализации проекта в области менеджмента качества медицинской помощи. У нас есть специалисты в этой области, центр компетенций качества создан на базе Областной больницы. Сейчас обучение основам менеджмента проходят главные врачи. Затем им предстоит создать в своих учреждениях рабочие группы по внедрению системы контроля качества. По оценкам экспертов, эта работа займет до двух с половиной лет.
— Менеджмент качества будет связан с контролем исполнения клинических рекомендаций и медикаментозного лечения? Бывают ситуации, когда в учреждении не обнаруживаются в середине года необходимые медикаменты: «Принесите свои», — говорят пациентам или капают то, что есть.
— И это тоже. Но медикаментозное лечение, обеспечение лекарственными средствами — это контроль качества уже верхнего уровня, качества руководства больницей, отделением. Работа комплексная, сложная, касающаяся всех уровней работы.
«Эмоциональная ситуация в коллективе сложная»
— За последние годы было анонсировано немало новых строек учреждений здравоохранения, а открылись только два. Неоднократно говорилось, что в Светлом необходимо расширение, и, конечно, давно ожидаемый межрайонный центр в Советске. На каком этапе находятся эти проекты?
— Что касается Светлого, то здесь в 2025 году запланирован капитальный ремонт кровли и четвертого этажа главного здания больницы, средства на эти направления выделены. Под вопросом стоит здание поликлиники, на него пока планов нет на этот год.
По Советску были сделаны медико-техническое задание и проектно-сметная документация. Мы сейчас работаем над их пересмотром в сторону объективной потребности востока области с учетом того, что на Советск по маршрутизации замыкается в общей сложности четыре муниципалитета: Неман, Краснознаменск, Славск. Но есть Гусев с возможностями его сосудистого центра, поэтому в 2025 году необходимо выверить оптимальное распределение нагрузки и откорректировать задание.
Источники финансирования самого строительства понятны, поскольку есть поддержка на федеральном уровне. Отдельно стоит вопрос о привлечении подрядчика, который потянет проект такого уровня в Калининградской области.
— На уровне общения министров с министрами, руководителей регионов и федеральной власти существует представление о «нормальных подрядчиках», с которыми можно иметь дело при серьезном медицинском строительстве? Если вспоминать онкоцентр, через что только не прошел регион за время его строительства…
— Здесь работает тот же ФЗ-44, как и при закупках оборудования. К сожалению, далеко не всегда везет так, что первый победитель торгов оказывается теми «золотыми руками», которые могут построить объект от и до. Далеко не всегда везет так, что первый победитель торгов оказывается теми «золотыми руками», которые могут построить объект от и до.
— На объектах образования уже перешли к закупкам у единственного поставщика. Культурно-образовательный центр на острове Октябрьском строится одним большим подрядчиком.
— Мы пока работаем в тех условиях, которые есть.

— Как сейчас обстоит дело с фактической закупкой лекарственных препаратов, в том числе для льготных категорий?
— На удовлетворение основной потребности в лекарственных средствах из регионального бюджета выделено на текущий год порядка 2,5 млрд руб. Есть видение, что в течение года потребуются дополнительные средства, поэтому с руководителем региона достигнуто понимание, что средства будут направлены. Из федерального бюджета выделяется порядка 400 млн руб. на обеспечение федеральных льготников.
Что касается закупок, то ряд конкурсов у нас не состоялся в конце прошлого года по причине того, что во время конкурсных процедур цена лекарственных препаратов изменилась, и нам пришлось заново готовить и объявлять торги. Состоялось порядка 40 % закупочных мероприятий, остальные продолжаются. Проблема есть, скрыть ее сложно, да и незачем. В тех случаях, когда ситуация становится острой, мы прицельно оперативно точечно отрабатываем с Облфармкомпанией, и решения удается найти.
— По уголовному делу о фиктивном трудоустройстве в подведомственном министерству МИАЦе арестованы
экс-заместитель министра и начальник одного из отделов. Неужели руководитель самого информационного центра не был в курсе?
— Формально в каждом отделе каждого подразделения системы есть начальники, которые контролируют сотрудников, ведут табель учета их рабочего времени, направляют этот табель в бухгалтерию и т. д. Так что контроль подобных процессов находится на уровне подразделения, не на уровне руководства учреждения.
Конечно, с учетом мероприятий, которые проводились в МИАЦе, эмоциональная ситуация в коллективе сложная. Но задач у медицинского информационного центра много, остановить их выполнение нельзя, и все подразделения сейчас работают. Но мы признаем, что незамеченной такая ситуация для минздрава пройти не может.
Текст: Мария Пустовая, Никита Кузьмин
Фото: RUGRAD, gov39.ru