
«Ремень на брюках долго не поддавался»: какие книги издает региональное правительство
17 ноября 2014
Проект по изданию книг калининградских авторов за счет бюджета региональное правительство запустило в 2006 году. На издательское дело за эти годы правительство потратило 14,5 миллионов рублей. Издать за это время удалось около 100 авторов. Библиотечные фонды региона за счет этой программы получили более 56 тысяч книг.
Областные власти любят подчеркивать, что проект этот совершенно некоммерческий . Целесообразность, правда, такой благой миссии региональных властей порой кажется достаточно условной. На деле, отсутствие коммерции, означает всего лишь то, что книги, которые издаются в рамках проекта не попадают на стеллажи книжных магазинов. Найти их можно только в библиотеках, а они, как известно, пользуются весьма относительной популярностью. При том издание некоторых книг выходит региональному бюджету в значительные суммы. Так на издание детской книги «Огненный дракон и марципанова принцесса» культуролога и руководителя бюро «Сердце города» Александра Попадина власти готовы были потратить 220 тысяч рублей. Тираж при этом должен был составлять 500 экземпляров.
Афиша RUGRAD.EU решила выяснить, о чем пишут калининградские авторы, которым посчастливилось издаться за счет местных налогоплательщиков. В Калининградской областной научной библиотеке обнаружить все намеченные для рецензирования книги не удалось. Поэтических сборников Дмитрия Ужгина и Валентины Витер там не оказалось. Зато нашлись стихи Геннадия Юшко и Альбины Самусевич, а также сборник рассказов «Три мудреца» Дмитрия Григорьева. Все книги изданы в 2013 году тиражами в 500 экземпляров.
Альбина Самусевич «Витражи небес» и Геннадий Юшко «Каменное безмолвие»
 Про местных поэтов Альбину Самусевич и Геннадия Юшко можно написать, что это такие «певцы родного края». Проблема тут в том, что практически в каждом крае России (хоть в Тюмени, хоть в Новосибирске, хоть в Нижнем Тагиле) есть такие вот «собственные певцы». При том про родные регионы они пишут так, что вся карта России в их лирике сливается в нечто неразличимо однообразное: зимой у них «метель гудит протяжно», весной – «букетик ландышей лесных – впитал все запахи весны» и так далее. То есть, получается такое извечное «И ель сквозь иней зеленеет/И речка подо льдом блестит» и прочее, как классики завещали.
Про местных поэтов Альбину Самусевич и Геннадия Юшко можно написать, что это такие «певцы родного края». Проблема тут в том, что практически в каждом крае России (хоть в Тюмени, хоть в Новосибирске, хоть в Нижнем Тагиле) есть такие вот «собственные певцы». При том про родные регионы они пишут так, что вся карта России в их лирике сливается в нечто неразличимо однообразное: зимой у них «метель гудит протяжно», весной – «букетик ландышей лесных – впитал все запахи весны» и так далее. То есть, получается такое извечное «И ель сквозь иней зеленеет/И речка подо льдом блестит» и прочее, как классики завещали.
Региональная идентичность у авторов все-таки сквозь стихи пролезает. Кант, к примеру, встречается у обоих. Но когда Самусевич пишет про Балтийск, начиная свой стих со строчек: «Город мой – корабль у причала/Каждый шорох взрывает сон/ Вся страна у тебя за плечами/Самый западный гарнизон», можно запросто представить, что где-то в Петербурге живет вот такая Альбина Самусевич, которая пишет про родной город стих. И когда она долго думает с чего же начать посвящение любимому городу, то тут ей, как вспышка, приходит строчка про корабль у причала. То есть, это вообще универсально и подходит ко всему, что к Мурманску, что к Балтийску, что к Архангельску, только без «самого западного гарнизона» само собой.
Дальше у поэтессы появляются и другие объекты, которые должны отражать региональный колорит. К примеру, танцующий лес: «Вы видели, как танцуют деревья/Обняв ветвями друг друга?/ Полны любви и доверья/ Пляшут польку буги-вуги». Ну и без стихотворения «Янтарная роза» сборник Самусевич, само собой, обойтись не мог и стоит ли добавлять, что весь блок, куда попали и стих про лес, и про розу, получил название «Янтарных тайн мозаика»?
Если книги обоих калининградских авторов читать параллельно, то где-то ближе к середине уже начинаешь путаться и сходить с ума: где тут Самусевич, а где Юшко –совершенно невозможно разобраться. У Юшко, конечно, как и положено мужчине пробивается в стихах этакое подобие кшатрийского духа (стихотворение «Тридцать седьмой» и прочая гражданская лирика), но в целом авторов можно запросто перепутать, тем более, что внешнее оформление книг так похоже. В принципе, знакомство с авторами можно окончить на чтении эпиграфа, который открывает книгу Самусевич:
Вижу алые паруса вдали
Плывут облака-корабли
Струится радуга-река
И тянется к перу моя рука
На мир взираю не дыша
Стихи диктует мне душа
Дальше пробиваться через этот набор рифм а’ля «дыша-душа» становится значительно сложнее.
Дмитрий Григорьев «Три мудреца»
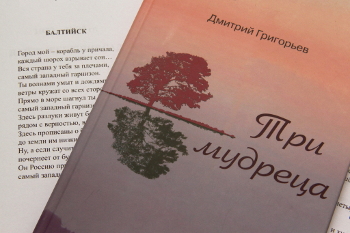 Раньше бы про рассказы Дмитрия Григорьева критики могли бы написать, что это «правдивая», «хорошо сбита проза», где есть место «мужеству, любви и настоящей дружбе», ну и еще что-нибудь такое, про благую роль литературы в цементировании «духовных скреп» того времени. В 80-е, в позднем СССР появилось целое поколение так называемых «почвенников» - этакое правое крыло набиравшего тогда силу диссидентства. В отличии от своих либеральных коллег, они меньше размышляли о правах человека и прочих «чуждых простому народу западных концепциях», зато с головой ныряли то в «толстовство», то в «достоевщину», ударялись в религию и искали в нехитром деревенском укладе тайные корни русской жизни. Перестройка развела почвенников с либеральным лагерем по разные стороны баррикад. Большинство из них в «новый, дивный мир» не вписалось. Те, кто оказался посмелей, ушел в красно-коричневую оппозицию (вплоть до общества «Память» и прочих «баркашовцев»), кто-то сбежал в деревню, в церковь, искать волшебный Китеж-град или еще куда. Так или иначе большинство из них оказалось на периферии литературных процессов, и вспоминать о почвенниках стали уже где-то в середине «нулевых», когда в политической жизни страны произошла очередная смена парадигм.
Раньше бы про рассказы Дмитрия Григорьева критики могли бы написать, что это «правдивая», «хорошо сбита проза», где есть место «мужеству, любви и настоящей дружбе», ну и еще что-нибудь такое, про благую роль литературы в цементировании «духовных скреп» того времени. В 80-е, в позднем СССР появилось целое поколение так называемых «почвенников» - этакое правое крыло набиравшего тогда силу диссидентства. В отличии от своих либеральных коллег, они меньше размышляли о правах человека и прочих «чуждых простому народу западных концепциях», зато с головой ныряли то в «толстовство», то в «достоевщину», ударялись в религию и искали в нехитром деревенском укладе тайные корни русской жизни. Перестройка развела почвенников с либеральным лагерем по разные стороны баррикад. Большинство из них в «новый, дивный мир» не вписалось. Те, кто оказался посмелей, ушел в красно-коричневую оппозицию (вплоть до общества «Память» и прочих «баркашовцев»), кто-то сбежал в деревню, в церковь, искать волшебный Китеж-град или еще куда. Так или иначе большинство из них оказалось на периферии литературных процессов, и вспоминать о почвенниках стали уже где-то в середине «нулевых», когда в политической жизни страны произошла очередная смена парадигм.
Дмитрия Григорьева, при некоторых «но», как раз, к этому «потерянному поколению» почвенников и можно отнести. Его герои, конечно, не столь радикальны: их сложно представить на баррикадах около Верховного Совета в 1993 году с автоматами Калашникова наперевес. Но в современную реальность они совершенно не вписываются. Это такие смешные чудики (почти что списанные у Шукшина), которые совершенно беззащитны перед мошенниками, чиновниками и прочими хозяевами жизни, которых вынесла на русские берега волна капитализма. Любой может воспользоваться их наивностью, обмануть, облапошить, отобрать квартиру, подсунув вместо нее ящик водки (как происходит с одним из героев заглавного рассказа «Три мудреца»). Рыночные реформы для них – «убийственные», о жизни отзываются «с негодованием», а зарплата у них «копеечная, как плевок».Впрочем, если у этих персонажей и возникает какая-то озлобленность на окружающую действительность, то до вооруженного бунта дело все равно не доходит. Григорьевским «чудикам» куда роднее сидеть на свалке и пить водку в промежутке между душеспасительными беседами. Бунт может начаться только тогда, когда обнаглевшая до невозможности власть забирает последнее убежище – ту самую свалку, где пьют водку.
Их антагонисты – те самые новые хозяева жизни («лизоблюды, подхалимы, спекулянты и подлецы») - напротив, крепко стоят на ногах, но, конечно, напрочь проигрывают героям с точки зрения морали. Если положительные персонажи Григорьева напоминают Шукшина, то отрицательные – это не слишком удачная реинкарнация богачей из «Незнайки на луне» Носова. Таков, к примеру, городской глава (судя по описаниям, глава все-таки Калининграда) Олег Павлович из рассказа «Экономия». Его твердая поступь настолько твердая, что распугивает голубей; стрижется коротко (наверняка – ежиком), поверх костюма из английской шерсти он носит драповое пальто. Он жесткий приверженец концепции социального дарвинизма (именно с этим течением ассоциируется у героев Григорьева перестройка, если капитализм, то только «дикий»), а мечта всей жизни у него какая-то безумная и в духе Остапа Бендера – попасть на карнавал в Рио. Градоначальник вроде бы и считает главного героя рассказа – электрика Пичугина – честным работягой, но все равно презирает его, как нечто бесполезное, чему места в этом мире быть не должно. Пичугин ничего противопоставить мэру не может, весовые категории разные. Но Григорьев оставить безнаказанной такую вопиющую несправедливость не может, для чего и использует старый, но проверенный прием - deus ex machina. Несчастного Олега Павловича бьет током, «глаза с неистовым треском вылезают из орбит», а Пичугин, «морщась от запаха паленой кожи» (такой вот почвеннический жестокий натурализм), выходит из его кабинета.
В рассказе «Фотограф и девушка» у Григорьева появляется постельная сцена. Слепленная, к слову, достаточно топорно, но автор тут может списать грехи на своего персонажа. Канва новеллы крутится вокруг сельского писателя Упадова, который изо всех сил пытается пробиться в литературную тусовку, и издателя Волкова (как и все представители городской среды у Григорьева Волков – жаден и порочен), который из кожи вон лезет, чтобы на Упадове заработать. Пишет Упадов ужасно. Проза его где-то на 100% состоит из отыгранных шаблонов и клише: трава у него в рассказах обязательно «изумрудная», а если девушка, то «нимфа». Григорьев вроде бы все это понимает, над своим персонажем по этому поводу иронизирует, но и сам, как назло, пишет примерно так же. В результате их совместного творчества на свет появляется вот такой образчик эротической жути: «Ласковые слова обольстительной музы воспламенили огонь буйной страсти… Он гладил ее волосы, плечи, бедра, вдыхая незабудковый запах ее нежного тела. Она расстегивала пуговицы и поминутно касалась губами его губ, глаз, лба… «Сладкая моя, - невольно прошептал он. – Вот мы и вместе».Он уже начал терять ощущение реальности и весь сосредоточился на безудержном желании слиться с прелестной богиней в удовлетворяющих мечту движениях. Ремень на брюках долго не поддавался…». Может быть, именно за такие сцены книжка «Три мудреца» и получила категорию «18+».
Есть тут, впрочем, и вещи более провокационные. В рассказе «Заморский гость» Григорьев заимствует часть фактуры у русских народных сказок (безвольный муж «с лицом актера Никулина», злая мачеха и ее наглая дочка и добрая трудолюбивая падчерица, которая здесь существует поначалу на позициях Золушки) и из «Алых парусов». Но вот развязка получается совсем нетривиальная: между двумя девочками вспыхивает взаимная симпатия и связь. И как кажется из сюжета, любовь эта отнюдь не платоническая. Сам Григорьев, как назло, всю накопленную смелость тут же теряет, линию эту рубит на корню и совершенно не развивает, а дает лишь слабые намеки на то, что на самом деле происходит между двумя «сестрами» («Она сделала над собой усилие и выговорила название того неприличного, чем девушки занимаются»). Так что матрица типичного почвеннического рассказа остается нетронутой, а читателю остается лишь недоумевать, что это в конце концов было: постмодернистская издевка над самим собой или просто очередной неудачный литературный ход?
Текст: Борис Савинков
Областные власти любят подчеркивать, что проект этот совершенно некоммерческий . Целесообразность, правда, такой благой миссии региональных властей порой кажется достаточно условной. На деле, отсутствие коммерции, означает всего лишь то, что книги, которые издаются в рамках проекта не попадают на стеллажи книжных магазинов. Найти их можно только в библиотеках, а они, как известно, пользуются весьма относительной популярностью. При том издание некоторых книг выходит региональному бюджету в значительные суммы. Так на издание детской книги «Огненный дракон и марципанова принцесса» культуролога и руководителя бюро «Сердце города» Александра Попадина власти готовы были потратить 220 тысяч рублей. Тираж при этом должен был составлять 500 экземпляров.
Афиша RUGRAD.EU решила выяснить, о чем пишут калининградские авторы, которым посчастливилось издаться за счет местных налогоплательщиков. В Калининградской областной научной библиотеке обнаружить все намеченные для рецензирования книги не удалось. Поэтических сборников Дмитрия Ужгина и Валентины Витер там не оказалось. Зато нашлись стихи Геннадия Юшко и Альбины Самусевич, а также сборник рассказов «Три мудреца» Дмитрия Григорьева. Все книги изданы в 2013 году тиражами в 500 экземпляров.
Альбина Самусевич «Витражи небес» и Геннадий Юшко «Каменное безмолвие»
 Про местных поэтов Альбину Самусевич и Геннадия Юшко можно написать, что это такие «певцы родного края». Проблема тут в том, что практически в каждом крае России (хоть в Тюмени, хоть в Новосибирске, хоть в Нижнем Тагиле) есть такие вот «собственные певцы». При том про родные регионы они пишут так, что вся карта России в их лирике сливается в нечто неразличимо однообразное: зимой у них «метель гудит протяжно», весной – «букетик ландышей лесных – впитал все запахи весны» и так далее. То есть, получается такое извечное «И ель сквозь иней зеленеет/И речка подо льдом блестит» и прочее, как классики завещали.
Про местных поэтов Альбину Самусевич и Геннадия Юшко можно написать, что это такие «певцы родного края». Проблема тут в том, что практически в каждом крае России (хоть в Тюмени, хоть в Новосибирске, хоть в Нижнем Тагиле) есть такие вот «собственные певцы». При том про родные регионы они пишут так, что вся карта России в их лирике сливается в нечто неразличимо однообразное: зимой у них «метель гудит протяжно», весной – «букетик ландышей лесных – впитал все запахи весны» и так далее. То есть, получается такое извечное «И ель сквозь иней зеленеет/И речка подо льдом блестит» и прочее, как классики завещали.
Региональная идентичность у авторов все-таки сквозь стихи пролезает. Кант, к примеру, встречается у обоих. Но когда Самусевич пишет про Балтийск, начиная свой стих со строчек: «Город мой – корабль у причала/Каждый шорох взрывает сон/ Вся страна у тебя за плечами/Самый западный гарнизон», можно запросто представить, что где-то в Петербурге живет вот такая Альбина Самусевич, которая пишет про родной город стих. И когда она долго думает с чего же начать посвящение любимому городу, то тут ей, как вспышка, приходит строчка про корабль у причала. То есть, это вообще универсально и подходит ко всему, что к Мурманску, что к Балтийску, что к Архангельску, только без «самого западного гарнизона» само собой.
Дальше у поэтессы появляются и другие объекты, которые должны отражать региональный колорит. К примеру, танцующий лес: «Вы видели, как танцуют деревья/Обняв ветвями друг друга?/ Полны любви и доверья/ Пляшут польку буги-вуги». Ну и без стихотворения «Янтарная роза» сборник Самусевич, само собой, обойтись не мог и стоит ли добавлять, что весь блок, куда попали и стих про лес, и про розу, получил название «Янтарных тайн мозаика»?
Если книги обоих калининградских авторов читать параллельно, то где-то ближе к середине уже начинаешь путаться и сходить с ума: где тут Самусевич, а где Юшко –совершенно невозможно разобраться. У Юшко, конечно, как и положено мужчине пробивается в стихах этакое подобие кшатрийского духа (стихотворение «Тридцать седьмой» и прочая гражданская лирика), но в целом авторов можно запросто перепутать, тем более, что внешнее оформление книг так похоже. В принципе, знакомство с авторами можно окончить на чтении эпиграфа, который открывает книгу Самусевич:
Вижу алые паруса вдали
Плывут облака-корабли
Струится радуга-река
И тянется к перу моя рука
На мир взираю не дыша
Стихи диктует мне душа
Дальше пробиваться через этот набор рифм а’ля «дыша-душа» становится значительно сложнее.
Дмитрий Григорьев «Три мудреца»
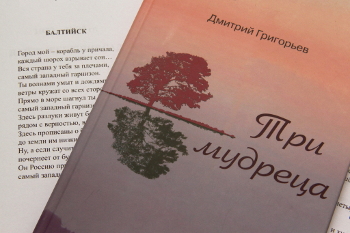 Раньше бы про рассказы Дмитрия Григорьева критики могли бы написать, что это «правдивая», «хорошо сбита проза», где есть место «мужеству, любви и настоящей дружбе», ну и еще что-нибудь такое, про благую роль литературы в цементировании «духовных скреп» того времени. В 80-е, в позднем СССР появилось целое поколение так называемых «почвенников» - этакое правое крыло набиравшего тогда силу диссидентства. В отличии от своих либеральных коллег, они меньше размышляли о правах человека и прочих «чуждых простому народу западных концепциях», зато с головой ныряли то в «толстовство», то в «достоевщину», ударялись в религию и искали в нехитром деревенском укладе тайные корни русской жизни. Перестройка развела почвенников с либеральным лагерем по разные стороны баррикад. Большинство из них в «новый, дивный мир» не вписалось. Те, кто оказался посмелей, ушел в красно-коричневую оппозицию (вплоть до общества «Память» и прочих «баркашовцев»), кто-то сбежал в деревню, в церковь, искать волшебный Китеж-град или еще куда. Так или иначе большинство из них оказалось на периферии литературных процессов, и вспоминать о почвенниках стали уже где-то в середине «нулевых», когда в политической жизни страны произошла очередная смена парадигм.
Раньше бы про рассказы Дмитрия Григорьева критики могли бы написать, что это «правдивая», «хорошо сбита проза», где есть место «мужеству, любви и настоящей дружбе», ну и еще что-нибудь такое, про благую роль литературы в цементировании «духовных скреп» того времени. В 80-е, в позднем СССР появилось целое поколение так называемых «почвенников» - этакое правое крыло набиравшего тогда силу диссидентства. В отличии от своих либеральных коллег, они меньше размышляли о правах человека и прочих «чуждых простому народу западных концепциях», зато с головой ныряли то в «толстовство», то в «достоевщину», ударялись в религию и искали в нехитром деревенском укладе тайные корни русской жизни. Перестройка развела почвенников с либеральным лагерем по разные стороны баррикад. Большинство из них в «новый, дивный мир» не вписалось. Те, кто оказался посмелей, ушел в красно-коричневую оппозицию (вплоть до общества «Память» и прочих «баркашовцев»), кто-то сбежал в деревню, в церковь, искать волшебный Китеж-град или еще куда. Так или иначе большинство из них оказалось на периферии литературных процессов, и вспоминать о почвенниках стали уже где-то в середине «нулевых», когда в политической жизни страны произошла очередная смена парадигм.
Дмитрия Григорьева, при некоторых «но», как раз, к этому «потерянному поколению» почвенников и можно отнести. Его герои, конечно, не столь радикальны: их сложно представить на баррикадах около Верховного Совета в 1993 году с автоматами Калашникова наперевес. Но в современную реальность они совершенно не вписываются. Это такие смешные чудики (почти что списанные у Шукшина), которые совершенно беззащитны перед мошенниками, чиновниками и прочими хозяевами жизни, которых вынесла на русские берега волна капитализма. Любой может воспользоваться их наивностью, обмануть, облапошить, отобрать квартиру, подсунув вместо нее ящик водки (как происходит с одним из героев заглавного рассказа «Три мудреца»). Рыночные реформы для них – «убийственные», о жизни отзываются «с негодованием», а зарплата у них «копеечная, как плевок».Впрочем, если у этих персонажей и возникает какая-то озлобленность на окружающую действительность, то до вооруженного бунта дело все равно не доходит. Григорьевским «чудикам» куда роднее сидеть на свалке и пить водку в промежутке между душеспасительными беседами. Бунт может начаться только тогда, когда обнаглевшая до невозможности власть забирает последнее убежище – ту самую свалку, где пьют водку.
Их антагонисты – те самые новые хозяева жизни («лизоблюды, подхалимы, спекулянты и подлецы») - напротив, крепко стоят на ногах, но, конечно, напрочь проигрывают героям с точки зрения морали. Если положительные персонажи Григорьева напоминают Шукшина, то отрицательные – это не слишком удачная реинкарнация богачей из «Незнайки на луне» Носова. Таков, к примеру, городской глава (судя по описаниям, глава все-таки Калининграда) Олег Павлович из рассказа «Экономия». Его твердая поступь настолько твердая, что распугивает голубей; стрижется коротко (наверняка – ежиком), поверх костюма из английской шерсти он носит драповое пальто. Он жесткий приверженец концепции социального дарвинизма (именно с этим течением ассоциируется у героев Григорьева перестройка, если капитализм, то только «дикий»), а мечта всей жизни у него какая-то безумная и в духе Остапа Бендера – попасть на карнавал в Рио. Градоначальник вроде бы и считает главного героя рассказа – электрика Пичугина – честным работягой, но все равно презирает его, как нечто бесполезное, чему места в этом мире быть не должно. Пичугин ничего противопоставить мэру не может, весовые категории разные. Но Григорьев оставить безнаказанной такую вопиющую несправедливость не может, для чего и использует старый, но проверенный прием - deus ex machina. Несчастного Олега Павловича бьет током, «глаза с неистовым треском вылезают из орбит», а Пичугин, «морщась от запаха паленой кожи» (такой вот почвеннический жестокий натурализм), выходит из его кабинета.
В рассказе «Фотограф и девушка» у Григорьева появляется постельная сцена. Слепленная, к слову, достаточно топорно, но автор тут может списать грехи на своего персонажа. Канва новеллы крутится вокруг сельского писателя Упадова, который изо всех сил пытается пробиться в литературную тусовку, и издателя Волкова (как и все представители городской среды у Григорьева Волков – жаден и порочен), который из кожи вон лезет, чтобы на Упадове заработать. Пишет Упадов ужасно. Проза его где-то на 100% состоит из отыгранных шаблонов и клише: трава у него в рассказах обязательно «изумрудная», а если девушка, то «нимфа». Григорьев вроде бы все это понимает, над своим персонажем по этому поводу иронизирует, но и сам, как назло, пишет примерно так же. В результате их совместного творчества на свет появляется вот такой образчик эротической жути: «Ласковые слова обольстительной музы воспламенили огонь буйной страсти… Он гладил ее волосы, плечи, бедра, вдыхая незабудковый запах ее нежного тела. Она расстегивала пуговицы и поминутно касалась губами его губ, глаз, лба… «Сладкая моя, - невольно прошептал он. – Вот мы и вместе».Он уже начал терять ощущение реальности и весь сосредоточился на безудержном желании слиться с прелестной богиней в удовлетворяющих мечту движениях. Ремень на брюках долго не поддавался…». Может быть, именно за такие сцены книжка «Три мудреца» и получила категорию «18+».
Есть тут, впрочем, и вещи более провокационные. В рассказе «Заморский гость» Григорьев заимствует часть фактуры у русских народных сказок (безвольный муж «с лицом актера Никулина», злая мачеха и ее наглая дочка и добрая трудолюбивая падчерица, которая здесь существует поначалу на позициях Золушки) и из «Алых парусов». Но вот развязка получается совсем нетривиальная: между двумя девочками вспыхивает взаимная симпатия и связь. И как кажется из сюжета, любовь эта отнюдь не платоническая. Сам Григорьев, как назло, всю накопленную смелость тут же теряет, линию эту рубит на корню и совершенно не развивает, а дает лишь слабые намеки на то, что на самом деле происходит между двумя «сестрами» («Она сделала над собой усилие и выговорила название того неприличного, чем девушки занимаются»). Так что матрица типичного почвеннического рассказа остается нетронутой, а читателю остается лишь недоумевать, что это в конце концов было: постмодернистская издевка над самим собой или просто очередной неудачный литературный ход?
Текст: Борис Савинков
Поделиться в соцсетях
