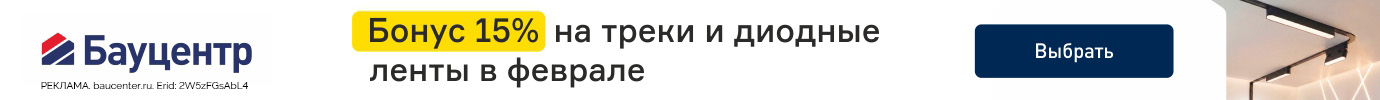/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
Илья Шуманов: Мы достаточно потоптались по спинам калининградских чиновников

Заместитель генерального директора «*** – Россия» о том, на что похожа борьба с коррупцией в России.
Московский офис «*** – Россия» расположен на Рождественском бульваре в Москве. Каких-то пять минут ходьбы от Большой Лубянки и сопутствующих культурно-исторических контекстов. В офисе доминирует идея прозрачности: отсутствуют межкомнатные двери, стены заменены функциональными перегородками. Коллеги видят друг друга, могут наблюдать за руководителями. В кресле заместителя генерального директора — калининградец Илья Шуманов. В интервью RUGRAD.EU он рассказал о том, на что похожа государственная борьба с коррупцией, где общественные антикоррупционеры ходят с оружием и почему он сам не хочет становиться федеральным экспертом по Калининграду.
— О том, что «Трансперенси Интернешнл – Россия» существует и работает, уже известно достаточно хорошо. Однако часто приходится слышать вопрос, а каковы цели работы организации в России?
— Несмотря на латинские корни в названии, наша организация абсолютно российская: с российскими учредителями, работают в ней только россияне. На сегодняшний день у «Трансперенси Интернешнл – Россия» есть собрание учредителей, в которое входят двое человек. Так получилось, что эти люди и есть основатели организации в России: Елена Анатольевна Панфилова и Анастасия Корниенко. Большое количество людей связаны с «Трансперенси Интернешнл – Россия» не просто каким-то формальным образом, но и неформальными узами. Мы общаемся и с Высшей школой экономики, и с представителями академических кругов, и с представителями средств массовой информации, которые нас поддерживают. Этот круг друзей, который, надеюсь, в ближайшем будущем перерастет в правление нашей организации.
«Трансперенси Интернешнл – Россия» — некоммерческая организация, иногда её называют правозащитной, иногда — экспертной организацией, работающей как аналитический центр. Есть такое понятие Think Tank — мозговой центр: мы как раз входим в число международных антикоррупционных Think Tanks, которые и занимаются глобальными инициативами, как наше международное движение. Нужно отделять международное движение «Трансперенси» от российского, потому что в мире существуют сотни иностранных отделений «Трансперенси». Мы — самостоятельный центр, самобытный. У нас нет центра управления извне в отличие от других организаций. Наш центр управления — это наш попечительский совет, директора, о которых можно прочитать на сайте организации. Я тоже вхожу в число топ-менеджмента организации. Для себя мы сами выбрали несколько приоритетных направлений: это экспертная работа, подготовка докладов о прозрачности, подотчетности органов власти, бизнеса, третьего сектора; антикоррупционное просвещение, исследовательская работа, и совсем недавно на федеральном уровне мы занялись расследовательской деятельностью. Сначала мы успешно опробовали эти направления на калининградском регионе. Нам показалось это достаточно приемлемой инициативой, мы взвесили все за и против и решили на федеральном уровне продолжить. Вот такой набор функций.
Для сравнения можно привести работу отделения «Трансперенси Интернешнл – Шри-Ланка». В нем состоят десятки тысяч человек, которые ходят маршами, собирают митинги. У них такая форма проявления гражданской позиции. В условной Великобритании больше внимания уделяется экспертному блоку работы, подготовке докладов. В Голландии в отделении несколько человек, три-четыре, и они занимаются аналитической работой. В Чехии, наоборот, собрались, приверженцы прямых действий и занимаются антикоррупционными расследованиями, выезжают с полицией на задержания коррупционеров и носят оружие. Все движения разные. Нет какого-то золотого стандарта, чем именно мы должны заниматься.
— Если всё-таки коротко сформулировать задачу организации в России?
— Я, наверное, могу посмотреть, как она звучит, но я уже назвал четыре основные цели: исследования, экспертная работа, расследования и антикоррупционное просвещение. Это такие четыре ножки стула, на которых стоит наша деятельность.
— Расследования появились в деятельности «Трансперенси Интернешнл – Россия» недавно, после обкатки калининградского опыта. Можно ли предположить, что вскоре появятся и новые направления, например упомянутые марши?
— В части включения новых направлений работы у нас нет никакой революционной задачи. Мы эволюционируем, как и всё наше общество. Если у общества есть интерес к расследованиям, значит, мы тоже будем отвечать на этот вызов, будем продвигать антикоррупционные расследования.
У нас нет никакой революционной задачи.Мы должны быть многогранны, подстраиваться под повестку и изменять ее. Антикоррупционные марши? Нет, это активизм в прямом смысле слова. Он как форма ответа гражданского общества на проявления коррупции не запрещен для нашего движения, но мы в России воспринимаем, что больше полезны гражданскому обществу в том виде, в котором существуем. Если мы увидим условно, что общество готово к маршам, то.. На мой взгляд, эта низовая инициатива, склонность к маршам, возникает от того, что люди не понимают, как более сложные формы — расследования, исследования — могут влиять на системы управления, гражданского общества, бизнеса.
То есть, на мой взгляд, экспертная работа и расследования — это несколько более качественный уровень, в отличие от прямого гражданского активизма. Но я не говорю, что он не ценен, просто для нас он не является ключевым.
— До переезда в Москву вы возглавляли калининградский центр «Трансперенси», который стал довольно известен в масштабах страны. После его появления были ли открыты центры в других, нестоличных регионах?
— Пока нет. Мы планируем открытие двух новых офисов, ведутся переговоры, уже провели перезапуск отделения в Санкт-Петербурге. Мы нашли партнеров, которые системно нам подходят, мы возлагаем на них большие надежды, понимаем, что уже притерлись друг к другу. Это процесс довольно сложный, потому что региональные представительства должны подходить нам, как вилка к розетке: понимать цели и задачи движения, соответствовать требованиям, в том числе этическим стандартам. Это сложный процесс. У нас есть порядка шестидесяти заявок с просьбами о сотрудничестве из разных регионов России, начиная от Северного Кавказа и заканчивая Дальним Востоком. Но мы физически не можем это освоить. Вести экспансивный режим работы мы, наверное, не хотим. Может быть, какое-то незначительное количество отделений еще появится, когда мы поймем, что в отдельно взятом регионе созрело гражданское общество, чтобы с ним коммуницировать.

— Что важнее для открытия нового офиса: созревание общества в отдельно взятом регионе или достаточно сильный коррупционный фон, чтобы было что расследовать и кого просвещать?
— Надо хорошо понимать, в каком регионе какой коррупционный фон, где и как подготовлена среда для институтов гражданского общества. Большая иллюзия, что есть серьезные различия между регионами по коррупционному фону. Даже Северный Кавказ не выделяется на этом фоне. Однако если говорить об институтах гражданского общества, то на Северном Кавказе их почти невозможно развивать, потому что существуют реальные ограничения, в том числе со стороны органов государственной власти.
На Северном Кавказе почти невозможно развивать институты гражданского общества.Третьему сектору там работать непросто, но тем не менее и оттуда заявки есть. Люди просят, предлагают сотрудничество, просто мы не можем пока определиться, найти финансовые, людские ресурсы, спланировать их, либо ограниченно доверяем нашим партнёрам.
— Что означает в данном случае слово «недоверие»: неужели какие-то провокации и попытки привлечь *** к сомнительным делам?
— Нет, прежде всего в этом случае я говорю о компетентности. Она должна соответствовать уровню организации. В первую очередь партнёры должны быть компетентны как эксперты, иметь соответствующее образование, понимать цели и задачи некоммерческих организаций, иметь опыт работы в третьем секторе. У них должно быть понимание, по каким причинам мы придерживаемся независимой позиции от органов власти. Это очень важно: встреча с органами власти не должна затягивать в их орбиту и оборот, иначе любой некоммерческой организации просто перестанут доверять. И обратно — любая критика должна содержать конструктивный элемент.
Открытие нового офиса всегда завязано на персоналии. Руководитель — это всегда харизматик, который повести за собой команду. На него обращают внимание, его идеями заряжаются другие люди, и он как следствие является носителем идеи прозрачности, подотчетности, открытости и антикоррупции.
— Как вы думаете, где сейчас гражданское общество готово для антикоррупционной работы высокого класса? Только в столицах?
— Это далеко не так. Большой потенциал, на мой взгляд, имеет Сибирь. Там, видимо, исторически существуют крепкие предпосылки для возникновения независимых институтов. Урал... Урал — это, наверное, вообще столп гражданской позиции в России. На протяжении 25 лет здесь всегда есть особое мнение, и альтернативная точка зрения представлена не только в институтах гражданского общества, но и во власти.
В Центральном федеральном округе есть отдельные регионы, где существуют люди, институты гражданского общества, которые работают системно и на постоянной основе. Я говорю про Ярославль. В меньшей степени, но это заметно в Костроме. Из Ростова в последнее время поступает много предложений. Краснодарский край, Сочи. Есть предложения и по Северо-Западу. Запросов и предложений о сотрудничестве много.
— Если говорить о результатах деятельности «Трансперенси Интернешнл – Россия». Вы ежегодно замеряете индекс восприятия коррупции. Какие изменения в этом отношении стали заметны за годы кризиса?
— Восприятие — самый сложный вопрос и всегда после его оценки следует многоточие. Интересно, что презентацию нашего легендарного индекса восприятия коррупции мы перенесли с конца года на начало года, в 2017 он будет второй раз презентоваться в январе.
Восприятие людей меняется, даже государственные институты не стоят на месте. Они эволюционируют, мы видим кампанию по борьбе с коррупцией, с коррупционерами, конечно, кто-то ее называет не кампанией, а «кампанейщиной».
На мой взгляд, ситуация меняется. Очень медленно, потому что любые социальные изменения — это длительный процесс, особенно в таком патриархальном обществе, как российское, приверженное консервативным идеям и ценностям. Прорывных прогрессивных представителей не так много, подальше от столицы, от западных провинций все достаточно консервативно. И пока произойдут изменения в сознании, должно пройти больше времени.
— То есть персонально вы за время кризиса так и не увидели принципиальных изменений? В одном из предыдущих интервью вы говорили, что кризис сделает население более требовательным в антикоррупционном смысле.
— Я думаю, что государство, наконец, осознало, что проблема с коррупцией есть, что от нее нельзя отмахиваться, и возглавило эту борьбу. В первом полугодии государство антикоррупционную повестку практически проиграло, пропустило. В тренде были расследования Panama Papers, международные скандалы, которые связаны с президентом России, куча других расследований, а российские силовики, государственные институты оставались на вторых ролях. Российские власти еле-еле успевали что-то комментировать. Мне кажется, они были дезориентированы и не понимали причинно-следственную связь: президент даже ошибся на «Прямой линии». Он говорил, что Süddeutsche Zeitung принадлежит крупному американскому холдингу, издательскому дому, в то время как на самом деле это независимое немецкое издание с длительной историей. Волна антикоррупционных идей, расследований, раскрытие многих фамилий, связей тогда сильно дезориентировали многих. Предполагаю, что силовикам было непонятно: «заказуха» это или действительно информация, опубликованная в рамках гражданской активности и в интересах России.
— Как лично вы оцениваете государственную борьбу с коррупцией. Это кампания или «кампанейщина»?
— Я вообще оптимист. Мне хочется идти навстречу изменениям и оценивать ситуацию, может быть, чуть лучше, чем она есть. Я надеюсь, что действительно будут происходить какие-то серьезные изменения. В частности, я могу сказать, что я их вижу, хотя они и ограниченные. Снятие иммунитета с губернаторов — вот пример старта антикоррупционной кампании, проблема в том, что она идет несистемно. Это борьба с коррупционерами, а не с коррупцией.
— Какие антикоррупционные «новеллы» вы ждете от нового российского парламента?
— У меня было несколько встреч с новоизбранными депутатами и есть определенные ожидания. Информация, что они точно собираются криминализировать обещание взятки как некий коррупционный акт, есть намерение криминализировать торговлю влиянием. Речь идет, условно говоря, о полюбившемся россиянам «телефонном праве», когда человек звонит по телефону и пытается повлиять на некий процесс в интересах себя или третьих лиц. Думаю, что часть этих «новелл» закреплена в национальном плане по противодействию коррупции и будет шаг за шагом реализовываться. В то же время Госдума или пропустила, или забыла о защите заявителей о фактах коррупции. То есть те люди, которые готовы сообщать об этом, остались под ударом.
В России отсутствует система законного лоббизма. Отсутствуют понятные правила того, как бизнес, гражданское общество и граждане могут продвигать свои интересы на уровень власти. Отсутствие правил, прозрачности и системы в целом приводит к тому, что для продвижения интересов у нас начинают передавать портфели с деньгами в ресторане «Пушкин», а средства компаний перечисляют с офшора в офшор, потом фамилии участников этого процесса выясняются только благодаря кейсам Panama Papers.
Словом, я считаю, что именно в системе четкого лоббизма есть некое будущее для российского бизнеса. Происходить это должно не на уровне: подписали хартию и продолжили давать взятки, — а действительно должны быть созданы правила, отход от которых чреват какими-то последствиями для бизнеса.
— Вы делали анализ, какое количество депутатов, вошедших в состав новой Государственной Думы, были ранее замешаны в коррупционных делах?
— Этот вопрос нам даже органы госвласти задают, будем ли мы проводить сплошную проверку. Пока такой аналитики нет. Мы в начале этого пути. По результатам выборов значительная часть депутатов Госдумы обновилась, но есть те люди, которые остались от предыдущего парламента. Естественно, ситуация будет под контролем. Мы и сейчас выявляем ситуации, когда депутат, условно говоря, от Архангельской области в своей декларации за 2015 год указал годовой доход 1,5 млрд руб., а в декларации кандидата в депутат Государственной Думы — 500 млн руб. Куда пропал этот миллиард — непонятно.
Естественно, мы внимательно будем смотреть за людьми, которые непосредственно определяют государственную политику, в частности за госпожой Поклонской. Мы знакомимся с ее декларацией о доходах и понимаем, что у нее нет никакого имущества, что она нигде не живет. Как такое может быть? Она должна была указать хотя бы что-нибудь.
Думаю, что благодаря в том числе и нашей позиции один из претендентов на участие в выборах депутатов в Госдуму не попал. Речь о господине Морозове, который успешно прошел праймериз, но кандидатом в итоге не стал.
— Александр Пятикоп и Алексей Силанов, представляющие Калининградскую область в новом составе Госдумы, в официальных релизах «Трансперенси» не фигурировали. По вашим данным, были ли они замешаны в коррупционных историях?
— Я не скажу, что Пятикоп и Силанов — это самые плохие представители Калининградской области в Госдуме. С ними я знаком лично, так получилось. Когда я с ними общался, они оставляли приятное впечатление. Я не скажу, что это люди, которые преследуют коррупционную выгоду в качестве основной цели или что они являются бенефициарами коррупционных сделок. Но, на мой взгляд, Александру Ивановичу Пятикопу было крайне трудно возглавлять комиссию по землепользованию в городском совете, не понимая причинно-следственной связи между выделением земельных участков и точечной застройкой, переводом земли в другое целевое назначение.
Пятикоп и Силанов — еще не худшие представители Калининградской области в Госдуме.С Алексеем Силановым — похожая история: мне кажется, он мог предполагать смысл тех постановлений, которые он подписывал в правительстве, но другое дело, что он делал это под нажимом Николая Николаевича Цуканова. Тут, как мне кажется, пограничное состояние. Я не готов говорить, коррупция это или не коррупция. Но я сам обращался в следственный комитет и упоминал Алексея Николаевича как потенциального нарушителя и человека, который подписывал постановление об обратном выкупе земельного участка.
В то же время у меня есть уверенность, что если я встречусь с этими людьми, то смогу с ними поговорить. Это люди, которые склонны к диалогу, могут выслушать чужое мнение. Мне кажется, с ними имеет смысл разговаривать.
— На сайте «Трансперенси» каждый четвертый примерно материал посвящен калининградским историям. Это связано с вашим определенным лоббированием или у нас в регионе действительно так много коррупционных кейсов?
— Из-за Калининграда у меня существует практически конфликт интересов. Я знаком со многими людьми, работающими в калининградском офисе «Трансперенси», я многих из них сам принимал на работу. Сейчас я отошел от управления офисом или какой-то приоритезации калининградского офиса, замыкаю эти интересы лично на директора. Моего лобби тут по сути нет. Коллеги не дадут соврать: я даже стал более критично относиться к тому, что у них происходит, предъявляю повышенные требования, потому что сам был погружен в калининградскую специфику и утаить от меня какие-то истории гораздо сложнее.
— Какие разработки ведет сейчас «Трансперенси» по Калининградской области?
— Об этом стоит говорить с Игорем Сергеевым, руководителем калининградского офиса. Насколько я понимаю, они ведут активную работу, перестроили политику публичной активности, наладили системную работу по обобщению отдельных коррупционных практик. К примеру, проанализировали занятость руководителей МУПов Калининградской области в коммерческих организациях. Получился эффект: сначала тихо-тихо, а потом сразу несколько десятков прокурорских представлений!
Сейчас перед офисом будут ставиться новые задачи, пройдет аудит текущей деятельности, есть планы переходить к федеральной повестке. Это не значит, что Калининград будет выведен из зоны интересов калининградского офиса, но от совсем локальных историй будем стараться отходить. Мы уже достаточно потоптались по спинам калининградских коррупционеров. Если не каждый муниципалитет, то через один замечены в коррупционных практиках. Почти все муниципалитеты охвачены. Где-то возбуждены уголовные дела, где-то чиновники уволены, где-то расторгнуты госконтракты. Нас знают в регионе очень хорошо. Может быть, имеет смысл нарастить свои мышцы и перейти на уровень расследований федерального уровня.
— Сегодня в России активны несколько крупных антикоррупционных проектов: вы, ФБК, СМИ ведут свои расследования. Можно ли говорить о наличии определенной конкуренции между антикоррупционерами?
— Я уверен, что на самом деле мы не являемся конкурентами, потому что «Фонд борьбы с коррупцией» — это не просто антикоррупционная организация: они занимаются и политической деятельностью, ведут партийные, избирательные кампании. У нас же нет цели и задачи претендовать на власть. Мы закрепились в сфере гражданского общества. Что касается СМИ, то мы, наоборот, сейчас поддерживаем молодых журналистов, которые занимаются расследованиями. Мы недавно провели школу для российских журналистов-расследователей, научили, как работать с американскими реестрами, искать в них информацию. Американским журналистам рассказали, как работать с российскими реестрами. Завязали людей контактами и уже видим, что выходят какие-то первые публикации.
Собственно, я думаю, что никакой конкуренции нет. Мы двигаемся в одном направлении, хотим снизить коррупцию. Нет ничего странного в том, что СМИ эту борьбу используют в коммерческих целях, зная, что хорошее расследование привлечет новую аудиторию. Также нет ничего странного в том, что ФБК, например, зарабатывает на антикоррупционной кампании политические очки. Мы не делаем ни того, ни другого.
— Почему, к примеру, вы позволяете себе критиковать «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального вместо того, чтобы объединиться и выступить общим фронтом?
— Мы обмениваемся информацией. На мой взгляд, взаимодействие — это не только обмен лестными отзывами, не только взаимные репосты, но и конструктивная критика. Это усиливает позицию, не дает потерять тонус. Если появляется конструктивная критика в наш адрес, то мы воспринимаем ее спокойно. Адекватное восприятие критики — это залог нормальной работы.
— Вы отметили, что «Трансперенси» не претендует на власть. Тем не менее «Трансперенси» на власть влияет. Как сейчас выстраивается взаимодействие с органами власти? Как они воспринимают вас?
— Среда органов власти тоже неоднородна. Кому-то нравится наша деятельность, кому-то не нравится. Для правоохранителей ярлык иностранного агента не является причиной не реагировать на наши обращения.
Статус иностранного агента не ярлык для правоохранительных органов: мы им помогаем.Иногда у них тоже возникают вопросы: где опубликована такая информация, как её получить, как работать с теми или иными реестрами? Кто-то выходит с предложением проверить информацию об их сотрудниках. Мы спокойно реагируем на такие просьбы, стараемся помогать.
На органы власти влияет абсолютно всё. Мы являемся частью российского общественного ландшафта. Естественно, любое наше высказывание отражается на органах власти. Плохо это или хорошо? Мне кажется, что сейчас это работает в режиме радио. Есть точка входа в органы власти, есть места для коммуникации, есть некий запрос.
— Те примеры, которые вы приводите выше, говорят о том, что «Трансперенси» даже полезна власти, раз правоохранительные органы обращаются за помощью.
— Если бы мы придерживались принципа самозамкнутости, сказали бы, что не влияем на органы власти и не взаимодействуем ни с кем, то чем тогда было бы оправдано наше присутствие в общественном пространстве?
— Что становится местом для коммуникации с органами власти?
— Ток-шоу, экспертные площадки, общественные советы. Органы власти и сами выходят на контакт. Один регион пригласил нас провести аудит системы распределения грантов для некоммерческих организаций. Мы дали какую-то оценку этой ситуации. Люди просят проанализировать закупки: мы такими вещами тоже занимаемся. Мы не людоеды, которые приходят к органам власти, чтобы их выпотрошить, и только грязью их поливают. Но это не означает, что мы готовы переступать через свои этические рамки и заниматься восхвалением органов власти.
— Стало ли больше случаев «слива» информации из органов власти?
— При подаче заявлений изнутри системы органов власти мы остаёмся как бы над схваткой. Нам принципиально несильно интересно, что толкает человека на передачу этой информации. Игнорирование таких случаев влияет на недоверие власти к нам. Я хочу сказать, что уровень доверия к нам в отдельных регионах, в Москве повышается.
Не скажу, что таких людей, передающих информацию, много. Существует страх: если человек, который на время выпадает из системы, сохраняет ей лояльность, то через некоторое время может снова в нее вернуться. Того же Анатолия Сердюкова можно привести в пример.
Нельзя сказать, что «сливов» стало больше. О многих сообщениях, которые к нам приходят, мы вообще не можем сказать, что это был за источник: они анонимны. Поэтому не нужно делить информацию, которую мы получаем от органов власти, от бизнеса, из СМИ. Она ценна сама по себе.
— После переезда в Москву пришлось встретиться здесь с какими-то стереотипами о нашем регионе?
— Я считаю, что калининградцы находятся на уровне сознания, восприятия себя, далеком от провинции. Калининград — довольно самодостаточный регион, и калининградцы в большей мере заслуживают того, чтобы в столице их воспринимали как равных.
— Вы делали обзор по аффилированности Алиханова, появляетесь в эфирах радиостанций, на других московских площадках с комментариями. Считаете себя эдаким федеральным экспертом по Калининградской области?
— Меня пытаются представить таким человеком. Но, на мой взгляд, это, естественно, не так. Оторвавшись на недолгое время от калининградской специфики, ты теряешь нить, ощущение того явления, экспертом в котором должен быть. Издатели медиа, политологи, которые в ежедневном формате читают новости, более компетентны как эксперты, чем я. Но я вынужден иногда комментировать для федеральных, иногда для международных СМИ отдельные события, и меня ассоциируют с Калининградской областью. Я горд этим и не хотел бы потерять эту связь. Это не значит, что человек из Твери не должен гордиться Тверью, но я очень люблю Калининград.
— Вы сказали много хороших слов о калининградском офисе «Трансперенси». Но многие истории, начатые еще даже во время вашего руководства в Калининграде, остались неразвившимися, остались на уровне пресс-релизов. Почему так?
— Смена руководителя, смена концепции. Может быть, у нового руководства есть свое видение реализации этих историй. Это подчеркивает, что в нашей системе существует определенная независимость. Принцип правопреемственности мы соблюли, дела были переданы, новый руководитель сам определяет: что из региональной политики комментировать, в каком формате. Естественно мы отмечаем некоторое ослабление количества расследований, но я думаю, что это временный процесс. Если это не временный процесс, то мы будем смотреть, как решать эти проблемы. Но пока калининградский офис выглядит одним из лучших.
— Известно, что ваша супруга работает помощником депутата в городском совете Калининграда. Нет ли в этой ситуации неуместного для антикоррупционера конфликта интересов?
— Она и раньше работала помощником депутата Сергея Донских. Когда журналисты попросили «Трансперенси» заняться историей о том, что пасынок этого депутата работал в администрации города, я сразу же ушел от принятия любых решений относительно этой истории. Это расследование было передано моему коллеге. Это нормально, нужно понимать, что мы все живем в ситуации конфликта интересов, мы не ангелы, не бестелесные сущности, которые не соприкасаются с людьми и с деньгами. Вопрос в том, как организовать свою работу, выстроить этический стержень, чтобы избежать коррумпированности и бесчестности.
Упомянутая вами ситуация абсолютно не влияет на мою семью: дома мы работу не обсуждаем.
Фото предоставлено «Трансперенси Интернешнл – Россия»