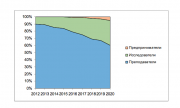/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
Андрей Клемешев: В современном университете вопрос не в том, сколько дать свободы, а в том, чтобы люди захотели ей пользоваться

На протяжении последних месяцев в главном калининградском университете произошло несколько ключевых событий: началась процедура разделения университета на профильные институты, была утверждена новая стратегия развития вуза, фиксирующая его специализацию, и состоялась встреча студентов и преподавателей БФУ им. И. Канта с президентом Владимиром Путиным. Если о последствиях последнего события пока говорить рано, то в стратегии есть что обсудить.
Текст документа по-хорошему удивляет здравой и жесткой оценкой того, в каком состоянии находится университет. Среди слабых сторон называются «инертность мышления и консерватизм значительной части профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников», «оппортунизм и ориентация на краткосрочную ренту», «плохая публикационная активность, низкий индекс научного цитирования университета», а также «низкий уровень языковых компетенций». Среди сильных: статус федерального университета с соответствующим финансированием; богатая история и традиции крупнейшего в регионе культурного и информационного центра, плюс успешный опыт функционирования Инновационного парка с уже пятью действующими малыми предприятиями. Впрочем, главное, на наш взгляд, в документе - это констатация факта, что университет не может динамично развиваться во всех направлениях. Нужно выбирать. И с подписанием данной стратегии две недели назад выбор был сделан.
- Как появилась идея провести встречу с Владимиром Путиным и какой эффект для университета она может иметь в будущем?
- Эта идея появилась не у нас, а в администрации президента. Чуть больше месяца назад нам предложили подумать над тем, что такой визит может состояться. Потом представители администрации президента с нами довольно тесно взаимодействовали, потому что не совсем понятно было, как будет происходить встреча. Для них, кстати, такой формат общения президента с преподавателями и студентами проходил впервые.
- Вадим Смирнов (в прошлом директор Института балтийских исследований при БФУ им. И. Канта, недавно перешедший на работу в администрацию президента, - прим. RUGRAD.EU) какую-то роль в организации визита играл?
- Вадим Смирнов здесь совершено ни при чем. Принимать решения такого уровня — это не его компетенция.
- Есть мнение, что по результатам встреч с федеральными университетами могут последовать действия по включению отдельных университетов в пятерку российских вузов, которые будут выводить в сотню лучших университетов мира.
- Не думаю, что тут есть какая-то связь. Как мы поняли, планируется целая серия встреч президента с представителями ведущих университетов, в первую очередь федеральных. По моему субъективному мнению, сейчас просто стало больше внимания уделяться проблемам вузовской общественности. Эта тема в социально-политическом плане стала актуальной, и президент сам захотел пообщаться в таком необычном формате. Ведь когда он приезжает сам и общается с большой аудиторией, нет определенной глубины общения. Почему начали с Калининграда, с БФУ им. И. Канта? Думаю, что решили двигаться с Запада на Восток. Какие-то иные аргументы я не нахожу. Другое дело, что такие встречи могут проходить только с представителями «приличных» университетов. Все-таки определенная справка по университету готовилась, и все должно было быть на уровне.
- На прошлой неделе была утверждена новая стратегия развития БФУ им. И. Канта. Это произошло всего через два года после утверждения программы развития университета. Причем и один, и другой документы рассчитаны на срок до 2020 года. Обычно сначала принимается стратегия, а потом программа. Как вы это объясните?
- Вообще говоря, даже в последнем документе отмечено, что первая версия стратегии была нами разработана еще в 2005 году — и мы ей следуем, но периодически корректируем, уточняем, развиваем. Это нормально. Поверьте, два года реализации программы — это немало! Это уникальный опыт, который нас многому учит. К тому же в нашей программе развития финансирование заложено до 2015 года. А нам уже нужно думать, что мы будем делать дальше и на какие финансовые ресурсы рассчитывать. Так что в стратегии мы уточняем наши приоритеты и пытаемся поставить вопрос о дальнейшей реализации наших планов.
- На какое финансирование в рамках разработанной стратегии вы бы хотели претендовать?
- Финансирование — сложная тема… Сейчас мы получаем субсидию на развитие 1 млрд руб. [в год], и это много, с одной стороны. Но, с другой стороны, к моменту начала реализации Программы развития у нас накопилось очень много проблем, требующих немедленного решения. Например, корпуса и общежития давно нуждаются в ремонте, и их нужно было финансировать в первую очередь. Необходима закупка новейшего лабораторного оборудования. А значит, нужны люди, которые могли бы на нем эффективно работать. То есть считать, сколько денег необходимо на закупку оборудования, можно только тогда, когда ясно, сколько и какие люди готовы приехать под него.
В 2007 году мы выиграли грант по нацпроекту «Образование» — 390 млн руб. на два года. Вот тогда было совсем сложно, потому что деньги мы могли направлять только на закупку оборудования. Повышать зарплаты за счет этих средств было нельзя. Поэтому никого особо не приглашали, нужно было работать только с имеющимися кадрами. К сожалению, быстро выяснилось, что не все наши коллеги готовы были взять на себя ответственность за закупку сложного научного оборудования, программного обеспечения… В определенном смысле тогда мы запрыгнули на ступеньку последнего вагона. Нам удалось возродить и развить естественнонаучный профиль университета, который медленно умирал в последние двадцать лет. Кстати, основа наших ведущих, на сегодняшний день, научно-образовательных центров — нанотехнологий и медицинских биотехнологий — сформировалась еще в тот период. Теперь, когда специалисты из других регионов и даже стран начали приезжать в университет, то и наши сотрудники тоже поверили в себя, появилась возможность говорить о большем финансировании, другом горизонте планирования и другом уровне решаемых задач.
Если говорить о деньгах, то отдельные объекты, которые отражены в стратегии, мы заявили в госпрограмму развития области. Их оценочная стоимость — порядка 3,9 млрд руб.
- Насколько я понимаю, в действующей программе также не заложена возможность финансировать напрямую рост зарплат и капитальное строительство?
- Нет, программа таких расходов не предусматривает. Это принципиальный момент.
- И поэтому университету нужна новая стратегия и новая программа...
- И поэтому тоже, но не следует все упрощать. Наш университет самый маленький из федеральных университетов — у нас 16 тыс. студентов, а есть университеты и по 50 тыс. студентов. Но важен не столько размер, сколько динамика развития, которая у нас одна из самых высоких в стране, в том числе за счет нашей открытости — к нам активно приезжают из других регионов России и из-за рубежа и ученые, и абитуриенты. Но при этом у нас просто катастрофически не хватает общежитий. В очередь на жилье стоят даже те студенты, которые уже поступили и несколько лет проучились. В рамках программы развития мы сумели привести имеющиеся общежития в порядок, но строительство новых — это для нас сегодня вопрос ключевой. В прошлом году нам удалось решить вопрос со строительством одного нового общежития, но оно не спасет ситуацию.
За все эти годы университет сумел сохранить свой землеотвод [рядом с административным корпусом на ул. А. Невского] и, конечно, при его застройке мы бы хотели исходить из концепции университетского кампуса. Понятно, что полностью сконцентрироваться в одном месте не получится, потому что у нас очень много корпусов «разбросано» по городу, деньги вложены, есть исторические здания на ул. Университетской или на ул. Чернышевского. Кроме того, появляются такие новые объекты, как проект «Фабрика» на базе переданной нам губернатором бывшей обувной фабрики на ул. Гайдара. Там будет научно-технологический парк, куда мы переведем наиболее сложное научное и технологическое оборудование. В июне уже сможем приступать к строительным работам на объекте.
- Успеете к середине 2014 года, как заложено в стратегии?
- Таковы наши планы. Но мы еще не проводили конкурс. Так что пока не ясно, кто окажется подрядчиком, это всегда очень большой и рискованный вопрос - и с точки зрения качества, и с точки зрения сроков.
- Тяжело было удерживать 28 га в центре города все эти годы?
- Конечно, тяжело. Наши службы провели очень большую работу, и теперь все это — федеральная собственность. На местном уровне стало легче. Но появились другие вопросы — например, взаимодействие с фондом РЖС (Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства под руководством А. Бравермана, - прим. БФУ им. И.Канта). Если вы помните, как только он появился, возникли сразу вопросы с землями сельхозакадемий. Мы получаем всякого рода письма из фонда. Но при поддержке федерального центра и региональных властей, думаю, сумеем найти правильное решение.
- В стратегии развития университета в качестве примера развития приводится Virginia Commonwealth University. Есть такое ощущение, что даже если очень радикально сократить профессорско-преподавательский состав БФУ им. И. Канта, без дополнительного финансирования на увеличение зарплат не обойтись.
- Как ни странно, опыт Virginia Commonwealth University очень интересен именно с позиции сохранения кадрового потенциала и успешного сочетания различных профилей — от медицины до гуманитарного цикла. У них получается сочетать ориентацию и на региональные потребности, и на глобальные стандарты. Они тоже серьезное внимание уделяют медицинской проблематике, проблемам здравоохранения. Стремятся к признанию, но не вообще, а по четко определенному кругу научных приоритетов, образовательных программ. Для нас этот университет интересен не столько в абсолютных значениях, сколько в своих пропорциях.
Абсолютно оторваться от нашей реальной жизни мы не пытаемся, да и не сможем. В России свои инструменты регулирования, такие как, например, соотношение числа студентов и преподавателей. Стоимость одного бюджетного места по российским университетам сильно различается. Сейчас у нас в БФУ им. И. Канта стоимость одного студента на бюджете — порядка 70 тыс. руб. в год. Но есть отдельные университеты, где бюджетное финансирование — 170 тыс. руб. за место.
В этом году нам удалось добиться увеличения финансовых ресурсов, которые мы направим на повышение заработной платы преподавателей. Повышение в среднем составит 23%. Это, конечно, не так много, как хотелось бы, но все-таки ощутимо. Поверьте, далеко не все так делают. И это без сокращения кадрового состава. Бывают разные механизмы увеличения зарплат. Очень распространен подход, когда говорят: сокращайте свое штатное расписание и повышайте зарплаты. Но ведь бесконечно это делать нельзя — есть учебный план, есть образовательный стандарт, который надо выполнять, поэтому в этом вопросе мы рассчитываем на другие источники экономии и привлечения средств.
- Тогда какой у университета есть запас по сокращению преподавателей для еще большего повышения зарплат?
- Вам не дает покоя тема сокращения преподавателей, но это не совсем наш случай — в последние годы мы увеличивали научно-педагогический состав.
Оптимизация преподавательского состава — это сложный вопрос, который не должен решаться только сверху. Сейчас мы перешли на систему институтов, предоставив больше свободы бывшим факультетам для того, чтобы они сами кадровые вопросы решали. Обновление образовательных программ требует обновления кадров, и оптимизация кадрового состава будет проходить на уровне институтов.
Задача руководства университета — в целом стимулировать более конкурентную среду в университете, чтобы не было «отрицательной селекции».
С другой стороны, сегодня университет выполняет и определенную социальную функцию. Есть профессора с большим опытом, но в преклонном возрасте. Мы все понимаем, на какую пенсию они могут рассчитывать, поэтому ищем определенные механизмы поддержки данной категории.
- Какие еще свободы структурным подразделениям университета дает переход на новую систему институтов?
- Вы знаете, в современном университете вопрос не в том, сколько дать свободы, а в том, чтобы люди захотели ей пользоваться. На традиционном факультете декан выбирался и оставался первым среди равных, он не был управленцем, и никогда должность декана не относилась к управленческим должностям. Это был один из преподавателей, который «управлял» нагрузкой, следил за дисциплиной студентов и социальным климатом в коллективе.
Директор института — это управленец, которому мы можем дать больше административных функций, а главное — он сам может взять на себя инициативу по развитию своего подразделения, по поиску новых проектов, новых источников финансирования.
Как результат, уже произошло укрупнение кафедр. Когда кафедра совсем маленькая, она не может вынести никакого экспертного заключения. Создание кафедры под одного конкретного человека — это не дело.
На определенном этапе нам была необходима централизация, но сейчас уже невозможно все вопросы решать ректоратом. Так что, думаю, процесс перехода на систему институтов нам многое даст.
- Вы делаете этот переход по чьей-то рекомендации, примеру или в связи с назревшей необходимостью?
- Уже все федеральные университеты использовали похожую схему. Не всегда это называется институтами. В Дальневосточном университете, например, школы. Всего у нас будет 14 подразделений*. Пока остаются два факультета в стадии реорганизации. На экономическом факультете нужно создать ряд условий (в том числе получить для них необходимые помещения), и остается факультет сервиса, но там тоже нужно создать определенные условия.
- Смогут ли подразделения самостоятельно нанимать преподавателей на международном рынке?
- Уровень наших зарплат в целом сегодня низковат для выхода на международный рынок. Из-за рубежа к нам на работу приезжают в первую очередь ученые-соотечественники, по тем или иным причинам уехавшие заниматься исследованиями за границу. Уже есть ряд примеров очень эффективной работы с такими исследователями: опубликован ряд работ в ведущих мировых научных журналах, есть и чисто экономические результаты. Некоторые лаборатории обеспечивают себя полностью, и уровень зарплат там достаточно высокий.
- Какие подразделения сегодня себя окупают?
- Ряд исследовательских лабораторий и научно-образовательных центров – материаловедения или биотехнологий, например.
- А если говорить об образовательных направлениях? Юридический или экономический факультеты, например?
- Экономфак, юрфак и факультет сервиса имели большой процент студентов контрактной формы обучения в последние годы. Но сложность сегодня заключается в том, что контрактное обучение имеет общую тенденцию к снижению. В 90-е годы студенты-контрактники были по сути единственным дополнительным источником финансирования для университета. Потом начала меняться демографическая ситуация и потребности в обществе, а затем пошло наращивание бюджетных расходов на образование. Как я сказал, бюджетный студент сегодня стоит 70 тыс. руб. в год, и мы не имеем права брать меньше этой суммы на контрактной форме обучения, а потребительский спрос выше этой планки ограничен. То есть демпинговать, как другие, мы не можем.
- Значительная часть стратегии университета посвящена переходу на преподавание на английском языке. Как вы планируете к этому прийти?
- Начинать, конечно, нужно с преподавателей. Эту проблему мы решаем через бесплатную для них подготовку по иностранному языку.
Что касается студентов, то здесь скорее нужен входной контроль. Вопрос-то о ЕГЭ по иностранному языку уже ставился. Но это палка о двух концах: есть опасность, что мы можем просто недобрать необходимое количество абитуриентов, если введем ЕГЭ по иностранному языку. У нас ведь идет снижение качества подготовки по ЕГЭ — и по русскому языку, и по математике. По иностранному языку дела обстоят тоже, мягко говоря, недостаточно благополучно.
Сейчас мы ищем мотивацию для студентов. Например, чтобы они могли получить какой-то признаваемый сертификат, отражающий результаты обучения иностранному языку.
Вообще в своей стране мы должны учить на своем языке. И количество программ, которые планируется читать на английском, довольно ограниченно. Например, мы вступили в ВТО. А давайте теперь спросим у кого-нибудь, кроме [руководителя делегации на переговорах о вступлении России в ВТО Максима] Медведкова, а имеют ли они представление о правилах ВТО? Думаю, что уровень функциональной грамотности окажется очень низким. Повышать эту грамотность нужно не только через переводы документов с потерей части смысла, но и через изучение этой тематики на оригинальном языке — английском, в данном случае. Такой опыт у нас в университете уже есть. Так что международное право и еще некоторые дисциплины можно читать на иностранном языке.
- А как бы вы прокомментировали заявление председателя культурной комиссии Общественной палаты России Павла Пожигайло о том, что нужно воздержаться от преподавания иностранных языков в России?
- Мне представляется, что это глубоко ошибочная позиция. В Европе уже требуется знание двух языков, помимо родного. И мы видим, какая высокая там в результате академическая мобильность. Скажем, во Франции есть свои особенности, но все преподаватели и студенты там прекрасно говорят на иностранных языках. Другое дело, что свой язык они поддерживают и охраняют. Кстати, у нас в университете есть очень большая программа пропаганды русского языка.
- Так, может, Пожигайло за бюджет боится: учим за государственный счет, а потом они уезжают работать туда, где платят больше?
- А бояться можно чего угодно, но превентивные меры должны быть адекватными. Иначе есть риск получить обратный эффект.
При достаточном уровне квалификации сегодня в России можно заработать больше и быстрее, чем в Европе. Тянет же в Европу, вероятно, другое — комфортные условия и социальные гарантии.
- У вас в стратегии проведено четкое разделение между перспективными для вас направлениями, глобальными, и не очень перспективными, региональными, а также указано на противоречие между ними. Хотелось бы понять, как расставлялись приоритеты**?
- Мы — федеральный университет, который без высокого уровня науки (а наука может быть только мировой, а не региональной или еще какой-то) не сможет справляться со своими задачами. Передовую науку трудно двигать «широким фронтом». Поэтому нам нужно определить приоритеты. Нельзя быть везде лучше всех, во всех сферах.
Мы определяемся на двух уровнях. Первый уровень — федеральный. Мы должны представить российское высшее образование и науку здесь, в Европе, на должном уровне и быть мостом для диалога между Россией и Европой. Учитывая особенности региональной экономики, нашему университету крайне сложно найти себе здесь партнёров. У нас практически отсутствуют наукоемкие и высокотехнологичные производства. С теми же, которые действуют, мы, конечно, устанавливаем партнерские связи, например, с производственными объединениями «Факел», «Дженерал Сателлайт». Именно поэтому мы вынуждены искать партнеров на федеральном уровне. Ярким примером может служить победа университета совместно с ОАО «ВНИИНМ» им. А. А. Бочвара (Росатом) в конкурсе Правительства РФ по созданию высокотехнологичного производства. БФУ им. И. Канта в рамках этого перспективного проекта получит примерно 190 млн руб. на разработку устройств рентгеновской оптики.
И второй уровень — региональный. Надо учитывать бытовавшее долгое время представление наших работодателей, что на региональном рынке труда можно найти уже готовые кадры под конкретное производство. Ситуация начинает постепенно меняться, работодатели сами начинают выступать заказчиками. В настоящее время с рядом крупных калининградских компаний мы заключили соглашения о подготовке кадров. Для нас это чрезвычайно важно. Так, мы начинаем готовить специалистов не вообще, а под конкретный функционал. Очень перспективным нам представляется совместный проект с «Автотором», связанный с созданием в университете международного отраслевого центра подготовки кадров.
Приоритеты начинают разделяться на те, с которыми можно конкурировать в научном мире — материаловедение, медицина, ИТ, и те, которые востребованы в регионе — сервис, транспорт, энергоэффективность, строительство и т.д. Есть приоритеты, которые пересекаются — это наиболее важные и перспективные направления. Для нас это, безусловно, медицина и медицинские биотехнологии, так как они являются областью самой современной науки и решают самую актуальную задачу жителей — обеспечение здоровья и качества жизни. Кроме того, у нас есть заделы и предпосылки конкурировать именно в этой сфере, вырваться в лидеры в университетском сообществе России.
Другой аспект проблемы выбора приоритетов — востребованные уровни и профили образовательных программ. У среднего российского университета сегодня 80-90% учебных планов составляют бакалаврские программы по различным направлениям. Бакалавриат — это, в первую очередь, ориентация на то, что есть, а не на развитие. Поэтому в ведущих университетах снижается доля бакалаврских программ — увеличивается роль магистратуры и последипломного образования.
Давайте возьмем структуру калининградской экономики и ее потребности. Если бы нам нужно было работать только на ее сегодняшние потребности, нам был бы нужен всего один большой колледж, а университет — нет.
Мы должны дать возможность учиться на бакалавриате по всему нашему «вееру» направлений всем желающим калининградцам, так как не все готовы куда-то ехать. Вместе с тем, мы усиленно работаем над открытием новых магистерских и послевузовских программ, которые требуют высокого уровня развития науки и технологии.
Чтобы «вытянуть» университет, мы должны стремиться к уровню, который опережает текущие потребности экономики. О каком технологическом развитии может идти речь, если мы будем готовить кадры только для того, что уже есть? Мы, например, глубоко убеждены, что центр медицинских биотехнологий станет основой развития медицинского кластера.
Кстати, сейчас, хоть и не без трудностей, мы разворачиваем сотрудничество с медицинской школой Гарварда, которая считается одной из лучших в мире. Понятно, что для появления в регионе высокотехнологичного бизнеса должны быть научные кадры и благоприятные условия, в том числе региональная поддержка.
- Какую именно региональную поддержку вы имеете в виду?
- Понятно, что кадровый потенциал региона в научно-образовательном плане весьма ограничен. Поэтому одним из ключевых моментов, определяющих успешность развития области, является приглашение в область высококлассных специалистов. За два года мы пригласили больше 100 человек. При этом одной из основных проблем является проблема жилья. Мы обратились к губернатору, и он нам в этом вопросе помог. Выше я говорил уже о том, что правительством региона нам были переданы площади для создания научно-технологического парка. Я думаю, это успешная практика и ее необходимо расширять.
- Связано ли как-либо перемещение на другую должность проректора по научной работе Геннадия Федорова с начавшейся кампанией по борьбе с не соответствующими нормам диссертациями?
-Я с Геннадием Михайловичем Федоровым много лет проработал, и в какой-то степени считаю его своим учителем. Не понимаю даже, откуда могла возникнуть такая постановка вопроса. Это была моя просьба. У нас есть сложности с созданием ряда институтов. В частности, создается Институт природопользования и пространственного планирования на базе Градостроительного колледжа и географического факультета. Геннадий Михайлович — опытный управленец, и я его попросил взять на себя эту сложную задачу – возглавить институт. Каких-то других оснований для его перевода не было.
Что касается наших диссертационных советов, то к ним никаких претензий не было. Я вообще с этим подходом через «антиплагиат», когда чисто формально что-то проверяется, не очень согласен. Есть свои критерии кандидатской и докторской диссертации. Плагиат всегда был недопустим. И махинации с диссертациями в России, да и не только, к сожалению, были всегда. Другое дело, что в последнее время они приняли какой-то масштабный характер. Мне, например, непонятно, почему люди, не относящиеся к сфере образования и науки, стали желать иметь степень.
- Не все в регионе согласны с вашей позитивной оценкой деятельности университета. Как бы вы прокомментировали такие точки зрения?
- Вы правы, есть разные точки зрения на развитие нашего университета. И не надо думать, что мы сидим в «розовых очках» — поверьте, к себе мы относимся гораздо более критично, чем это может показаться окружающим. Бывает обидно другое — когда люди предпочитают не замечать позитивных сдвигов или даже упорно «педалируют» какие-то стереотипы из прошлого.
Мы, как и все в регионе и стране, трудно пережили 90-е годы. Тогда всем было по-своему плохо. Надо было выживать. И университет, как часть нашего общества, вынес из 90-х не самые приятные черты. И сегодня университет не существует в каком-то своем особом пространстве. В его деятельности отражаются все те социальные болезни, которые характерны для всего нашего общества. Но нельзя же концентрироваться только на этом, нельзя не видеть тех позитивных черт, которые стали свойственны университету в последние годы.
Сейчас мы демонстрируем очень высокую динамику, особенно с момента получения статуса федерального университета. Мы сами иногда не успеваем удивляться, как много появляется нового и интересного в университете, какие люди приезжают к нам жить и работать. И сдерживают нас зачастую «тени из прошлого» — те же инфраструктурные ограничения. Поверьте, у очень большого количества российских вузов, например, реально есть избыточные площади — непозволительная для нас роскошь.
Понятно, что все, что связано с системой образования, достаточно инерционно, и результаты видны не сразу. Однако я уверен, развитие университета будет позитивно влиять на весь регион. Уже сейчас наш университет в своем федеральном статусе является своеобразной точкой роста для всей области.
Знаете, я много писал и говорил о Калининградской области: мы всегда гордились толерантностью, отсутствием национальных или межконфессиональных конфликтов, мы до сих пор являемся ярко выраженным переселенческим регионом. Но что непременно замечают последнее время люди, приезжающие в Калининград? То, что сегодня в регионе демонстрируется все большая закрытость и нежелание принять людей извне, нежелание честно конкурировать во многих профессиональных сферах. Неумение радоваться успехам, попытки найти даже в нормальном деле подвох, «двойное» и «тройное» дно. Вот, например, мы много говорим о нашей медицине, о ее неудовлетворительном состоянии. Так одной из причин такого состояния является ее закрытость и оторванность на протяжении 20 лет от «большой» России. Мы пытаемся, в меру сил, воздействовать на ситуацию — вкладываем инвестиции в подготовку завтрашних врачей, приглашаем лучших специалистов из других регионов, открываем новые виды медицинских услуг. Но даже в таком, казалось бы, полезном для всех деле часто приходится сталкиваться со скепсисом и раздражением. Боюсь, что наша эксклавность уже влияет на стиль регионального мышления. Университет отличает открытость и готовность перенимать позитивный опыт. Это действительно становится нашей миссией — противостоять закрытости, ограниченности и провинциализму.
*В новую организационную структуру университета войдут следующие подразделения: Химико-биологический институт, Институт прикладной математики и информационных технологий, Институт транспорта и технического сервиса, Физико-технический институт, Медицинский институт, Институт природопользования, территориального развития и градостроительства, Юридический институт, Институт гуманитарных наук, Институт социально-гуманитарных технологий и коммуникации, Высшая школа физической культуры и спорта, Высшая школа педагогики, Факультет сервиса, Экономический факультет и Европейская бизнес-школа БФУ им. И. Канта.
**К глобальным приоритетам в стратегии развития университета относятся медицинские биотехнологии, информационно-телекоммуникационные системы, материаловедение и наносистемы, а также фундаментальные исследования по избранным тематикам (алгебраическая геометрия, космология, нелинейная химия, численные методы).
Текст: Вадим Хлебников