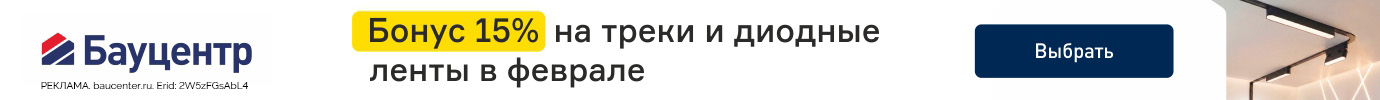/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
Владимир Мау: Сейчас изменить стране дешевле, чем изменить страну

Ректор академии народного хозяйства прочитал лекцию калининградским чиновникам и бизнесменам о том, что заставляет молодежь уезжать из России, почему ученые не знают, как построить хорошую систему здравоохранения в обществе, где лечатся «решительно все», и чем угрожает российской экономике рост зарплат россиян при невнимании к качеству институтов. RUGRAD.EU приводит краткие выдержки из его выступления.
Россия находится в беспрецедентно хорошем экономическом положении. Нашу экономику принято ругать, но вы знаете, с конца 60-х годов Россия не была в таком хорошем экономическом положении: по сбалансированности макроэкономических показателей, по темпам роста, по бюджетной политике и даже по динамике капитала. У нас действительно высокий отток капитала, но у нас и высокий приток капитала, однако баланс отрицательный.
При всей радужности картины, которую я описал, уровень недовольства достаточно высок. Я имею в виду не политическое недовольство, а недовольство предпринимателей бизнес-климатом, экономическими перспективами, и у этого есть экономические основания. Мы можем долго себя утешать, что наши макроэкономические показатели сильно лучше, чем во всех развитых странах, но ведь и нормальным темпом роста России является рост выше, чем у Германии, но ниже, чем у Китая. Тогда у нас и не кризис, и не «пузырь».
В России есть 2 вида рисков: внешние и внутренние. Что касается универсальных структурных вызовов - внешних рисков - то это в первую очередь кризис. Этот кризис, как и кризис 30-х и 70-х годов, приведет к возникновению реально нового мира, с другими принципами регулирования и иной экономической доктриной. Этот кризис будет в первую очередь вызовом для социального государства. Если мы посмотрим, то увидим, что самый сильный кризис там, где сильнее всего развиты социальные государства, в государствах, созданных в первой половине 20 века со своими особенностями образования, здравоохранения и пенсионной системы. Долгосрочная глубина этого кризиса связана с тем, что в нынешней демографической, социальной и экономической ситуации не может быть старой пенсионной системы, старого здравоохранения и старого образования. Эти системы создавались для обществ, где здоровые платили за больных, работающие за пенсионеров и не учащиеся за учащихся. Сейчас мы отлично знаем, как сделать хорошее здравоохранение в Африке или Китае, где много бедных людей, которые жаждут получить доступ к врачу, но мы не знаем, как сделать хорошее здравоохранение в обществе, где лечатся решительно все. И это уже не бюджетная проблема в чистом виде. С образованием то же самое, потому что сейчас учатся постоянно.
Когда создавалась современная пенсионная система в Германии и Великобритании, пенсионный возраст был 70 лет, а продолжительность жизни - 45-50 лет. То есть мы знаем как работает пенсионная модель, когда продолжительность жизни ниже пенсионного возраста, но за 20 век во всех развитых странах пенсионный возраст стал ниже продолжительности жизни. То есть сейчас не дискуссия о том, должен ли быть пенсионный возраст 60 или 65 лет. Это уже не важно. Мы не можем оставаться в этой парадигме. Пенсионеры, которые живут на пенсии 20 лет, - это уже совсем другой вид отношений и другой уровень дохода.
Сегодня те люди, которые находятся в возрасте, например, Станислава Сергеевича [Воскресенского] (ему 35 лет, - прим. RUGRAD.EU), вообще не надеются на государство и не думают, что оно что-то им будет в качестве пенсии платить. Этому поколению нужно создавать возможности жить или на частно накопленную пенсию, на доходы от сдачи в аренду недвижимости, или полагаться на семью.
То же самое со здравоохранением и образованием. Мы идем по пути индивидуального здравоохранения и образования. И пока мы не решим эти проблемы, они будут тянуть проблемы социальные и политические. Причем это не вопрос, где взять денег, а это вопрос, как организовать эти сектора. Кроме того, современный экономический рост существует 250 лет. И он до сих пор существовал только при росте населения. Это еще одна ловушка.
Никогда еще не было такой накачки экономик деньгами. И мы столкнулись с парадоксальным явлением, когда денежное предложение увеличивается, а инфляция падает, хотя должно быть наоборот. Правительство печатает деньги, чтобы снизить курс национальной валюты, а она наоборот укрепляется, как это происходит в Японии и США. Именно поэтому говорят, что кризис — это хорошее время для экономиста, но плохое для человека. Сегодня мы правда не понимаем, когда это рванет и чем. Хотя в 30-х и 70-х тоже не понимали, что происходит.
Если переходить к российским проблемам, то первая из них - это «ловушка конкурентоспособности». За последние 10-15 лет в России существенно росли доходы населения при неулучшении, а по некоторым направлениям и ухудшении качества институтов. То есть мы становимся страной с относительно дорогим трудом и плохими институтами, а это тупиковая ситуация с точки зрения развития. Капитал идет туда, где плохие институты, но дешевый труд, или туда, где хорошие институты, но дорогой труд. Это серьезная ловушка, потому что в ней эффективными являются вложения только в [сырьевые] ресурсы или в услуги, что, собственно, мы часто в России и наблюдаем. И последний интерес, в том числе и Владимира Путина, к рейтингу Doing Business - это попытка сбалансировать качество институтов и стоимость труда в России. Но это серьезная проблема, которая не решается в 2-3 года.
Есть еще одна проблема, с которой стоило бы начинать, это проблема «географического баланса» и удержания людей в стране. Я часто повторяю одну фразу: отличие сегодняшней ситуации от ситуации 25-летней давности состоит в том, что сейчас изменить стране дешевле, чем изменить страну. Если 25 лет назад вы хотели жить в хороших экономических условиях, вы должны были бороться за то, чтобы улучшалась жизнь в стране. Сейчас в «плоском мире», где доступен транспорт и язык, гораздо проще переехать туда, где вы хотите жить. И это огромный минус с точки зрения качества элит. Дело в том, что желание смены места - это не результат низкого уровня жизни, как это было при крушении Советского Союза или сейчас в средней Азии; проблема в том, что люди все острее хотят уехать с ростом благосостояния. Поэтому если благосостояние продолжит нарастать без улучшения качества институтов, это создаст очень серьезную проблему для качества нашей демократии.
Наш миграционный баланс состоит в том, что от нас уезжают высококвалифицированные специалисты, а приезжают низкоквалифицированные. Самое обидное - это увеличение спроса на обучение детей в иностранных школах. Когда вы спрашиваете у молодежи: «Хотите ли вы жить за границей?», то 30% хотят, а 10% верят, что они это смогут. А когда вы спрашиваете, а хотели бы вы, чтобы ваши дети жили за границей, то там-то цифры начинают зашкаливать.
Я, допустим, скептически отношусь к обучению лучших за границей, и не потому, что я ректор вуза, который хочет удержать студентов. Где спрос, там появляется и предложение, и если люди будут ехать за образованием в США, а за здравоохранением в Германию, то в России никогда не возникнет нормального предложения ни в образовании, ни в здравоохранении. Мы должны оценивать наши вузы не по количеству денег, в них вложенных, а по количеству иностранных студентов, которые приехали в них учиться. Мы вкладываем в наши вузы много денег, а иностранцы не едут, и проблема явно не в языке.
Ну и, конечно, стоит вопрос региональной политики. Мы постоянно ведем долгосрочную дискуссию о том, сколько денег должно оставаться у федерации и сколько должны получать регионы. Но здесь тоже не может быть традиционного перераспределения денег в регионы. У федерации много обязательств, и просить ее отказаться от части из них нельзя. Поэтому здесь мы тоже должны искать новую модель экономического развития регионов, которая бы позволила субъектам федерации генерировать доходы, и особенно муниципалитетам. Чтобы проблемы граждан на местах решались не переговорами с Москвой о получении дополнительных субсидий.
Что бы лично я сделал в 90-х, если бы удалось отмотать время назад? На этот вопрос очень много отвечал Егор Гайдар. И самым типичным его ответом был: «Я бы назначил Чубайса отвечать не за имущество, а за МВД». Честно говоря, я не вижу, что можно было бы сделать лучше, зато я вижу много того, как можно было бы сделать хуже. Я знаю, как можно было в начале 90-х взорвать ситуацию в военном отношении, не успев вывезти ядерное оружие из трех сопредельных государств. Я понимаю, как легко могла произойти дестабилизация ситуации. Я понимаю, как нам удалось избежать настоящей гиперинфляции, потому что на протяжении нескольких месяцев у нас 12 центробанков стран СССР эмитировали рубли. То есть, в моем понимании, все на самом деле происходило лучше, чем можно было ожидать в тех условиях, которые были. Я просто напомню, что мы выходили из советской системы вообще без золото-валютных резервов, с долгом на уровне ВВП, без надежды на внешнюю помощь, с полным отсутствием границ и налогов. Я просто хочу напомнить, что советская налоговая система была привязана к фиксированным ценам.
Про Калининград я помню такой эпизод, в ноябре 1991 года. Плыл корабль с гуманитарной помощью из Германии в Санкт-Петербург, и основная проблема, которая волновала тогда губернатора Санкт-Петербурга - чтобы он не остановился в Калининграде на дозаправку. В Петербурге было продовольствия на 5 дней, и в Калининграде на 5 дней. Губернатор Петербурга был уверен, что если корабль хоть приблизится к Калининграду, до Петербурга он уже не дойдет.
Текст: Вадим Хлебников