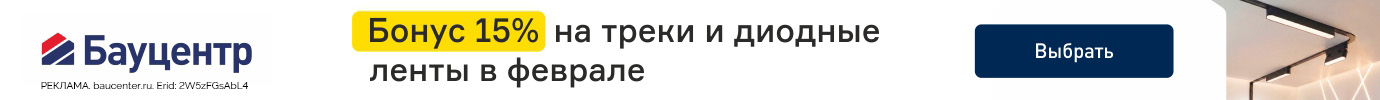/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
Людмила Чернова: Пройдет еще десятилетие, пока люди перестанут бояться выражать свои политические предпочтения

О специфике восприятия политической и экономической сферы жителями региона, «калининградской идентичности» и рейтингах доверия представителей власти, о «калининградском митинге» и о том, что такое социология «по-калининградски» RUGRAD.EU рассказала руководитель «Калининградской социологической службы». Беседа состоялась за несколько дней до дня выборов Президента Российской Федерации.
- Раз в 2 месяца возглавляемая Вами «Калининградская социологическая служба» публикует результаты опросов жителей области. Какие основные тенденции Вы можете выделить в преддверии президентских выборов?
- В ходе своих исследований мы заметили одну интересную вещь, которая не проявлялась на прошлых выборах: есть такой показатель, как non-response rate (количество отказов от участия в исследовании); обычно он не превышает 0,15 – то есть 15 отказов на 100 человек. В ходе этой кампании показатель резко увеличился и составляет 0,30. Это говорит о том, что, отвечая на вопросы, люди могут просто обманывать интервьюера. Они видят остроту этой кампании и могут не говорить открыто о своих предпочтениях. Когда уровень отказов такой высокий, любые данные подвергаются некоторому сомнению, так как это нехарактерная тенденция.
Мы пришли к выводу, что политика для россиян, и для калининградцев в том числе, - это достаточно осторожная и закрытая тема. В отличие от западных стран, где, какой бы острой кампания ни была, люди все равно не будут врать, отвечая на вопросы социологов. У нас же сохраняется некоторая неискренность, потому что мы находимся на пути формирования демократических процессов. Должно пройти еще какое-то время, может быть, десятилетие, до того момента, когда люди у нас будут смело выражать свои взгляды, не бояться раскрывать свои политические предпочтения.
- Нынешняя кампания проходит достаточно остро, это способствует росту политического самосознания?
- Это зависит не столько от остроты кампании, сколько от работы в промежутках между выборами. Если люди будут понимать, что не осуществляется никакого давления, то постепенно будут открываться.
- Насколько мне известно, вы сами не из Калининградской области?
- Нет, я проживаю в регионе последние 6 лет.
- Именно поэтому интересно узнать ваше мнение: среди калининградских экспертов популярна тема так называемой «региональной идентичности», написано значительное количество статей, даже диссертаций. Это имеет под собой основание?
- С одной стороны, региональная идентичность имеет место: последние 60 лет область заселялась практически непрерывно, и, к примеру, переселение последних лет из Средней Азии и Казахстана также сыграло свою роль в формировании идентичности и какого-то нового «портрета» здесь. Нельзя не принимать во внимание, что калининградцы часто выезжают на Запад, при этом берут оттуда какие-то модели.
С другой стороны, для человека, который приезжает сюда из России, вне зависимости от того, Урал это или Поволжье, здесь нет долгого процесса адаптации. Можно говорить о том, что для россиянина Калининград – это такой же город, как и все остальные.
При этом исследования показывают, что калининградцы имеют какое-то свое отношение к определенным социальным индикаторам, финансовым инструментам. Здесь другой уровень восприятия информации: что-то идет быстрее, чем в средней России. Не так давно мы изучали банки и финансовые институты, у калининградцев выше интерес к существующим инструментам, выше знание о банках, чем в среднем по России. Также жителям региона свойственна более гибкая реакция на какие-то социальные явления.
- То есть можно говорить о том, что социологи по результатам кросс-региональных исследований выделяют определенные факторы принадлежности к калининградскому социуму?
- Да, о таких тенденциях можно говорить.
- Относится ли к этим тенденциям так называемый образ «калининградского митинга», который до настоящего времени широко обсуждается как в научном, так и в экспертном сообществе?
- «Калининградский митинг», я бы назвала его брендом, уже отошел в прошлое. Его затмили недавние массовые акции протеста в Москве, и так далее. Сейчас мы видим, что на акции протеста, которые организуются в Калининграде, выходит совсем немного людей. В настоящее время отсутствуют интересанты, любой хороший митинг нужно готовить, должна быть организация.
В спокойном периоде данные исследований показывают, что интерес к митингам у населения составляет порядка 15%. Это относительно невысокие данные. Надо понимать, что половина этих людей никогда в жизни на улицу не выйдет, при этом у них есть какая-то внутренняя поддержка протестующих.
В ближайшие несколько лет протестная активность в России, в том числе и в Калининградской области, сохранится на том же уровне. С другой стороны, как я уже говорила, все будет зависеть от повестки дня, насколько она будет актуальна для населения.
- Получается, что в массовых акциях протеста конца 2009 – начала 2010 года решающую роль сыграла организация или заявленная проблема транспортного налога?
- Слияние этих двух факторов: цель и организация. К нынешним целям митингующих нет социального интереса.
- В Калининградской области сосуществуют назначенный президентом и «Единой Россией» губернатор Николай Цуканов и избранный жителями областного центра глава города Александр Ярошук. Конфликт между ними - одна из любимых тем региональных средств массовой информации, а также чиновников как правительства области, так и администрации города. Находит ли это какое-либо отражение в предпочтениях населения в отношении заявленных персон?
- Необходимо начать с того, как люди оценивают работу и того, и другого, и как им доверяют. Наши исследования показывают, что рейтинги обоих находятся примерно на одном уровне, чуть более 40%. Было значительное падение перед выборами в Государственную Думу, когда у обоих падал рейтинг на 7-8%; сейчас уровень поддержки вернулся на позиции августа, начала сентября прошлого года. Так население оценивает их работу.
Что касается темы конфликта, о которой вы говорите, люди этого абсолютно не видят, и я думаю, что не увидят, пока это не будет задевать их каких-то рациональных интересов. Если и есть какая-то подковерная борьба, то она не отслеживается, не замечена населением.
- Это падение в 7-8%, о котором Вы говорите, оно обусловлено тем, что и губернатор, и городской глава поддерживали «Единую Россию»?
- Тогда была смоделирована массовая истерия в отношении работы органов власти. Рейтинги снизились у всех, а не только у губернатора и главы города.
- Рейтинг доверия более 40% - это так называемый «рабочий рейтинг»?
- Это абсолютно нормальный рабочий рейтинг, абсолютно адекватный. Если брать 100% населения, то порядка трети, 33-35% в принципе индифферентны всегда и ко всему. Они живут иначе, они сами кормят свои семьи, зарабатывают деньги. Им не очень интересна работа власти; если у них дома сломался подоконник или что-то отвалилось, они не побегут куда-либо жаловаться, а просто починят сами или заплатят за ремонт. В основном это население активного трудового возраста и молодежь.
Таким образом, вычитая из 100% населения названные 33%-35%, остается менее 70%; поэтому можно говорить о том, что 40% рейтинга Николая Цуканова и Александра Ярошука - это позитивная оценка, преимущественно ее формируют люди среднего и старшего возраста.
Здесь очень много факторов, субъективные оценки деятельности любой власти формируются очень хаотично. Что-то случилось дома - и человек сразу резко негативно на все реагирует. Есть так называемый «плавающий процент», когда люди свои личные события проецируют на оценки всего остального. Если говорить о твердых негативных оценках, они свойственны порядка четверти населения.
- Наверняка ваши исследования касаются также и партийных предпочтений. Выборы в Госдуму показали разрыв в рейтинге «Единой России» в Калининграде и других муниципальных образованиях региона, с чем это связано?
- Можно сказать, что это связано с честностью ведения кампании. В областном центре население честно среагировало, тут не было жесткого прессинга, который присутствовал в других муниципальных образованиях. Отсюда можно говорить, что результаты думских выборов именно в Калининграде достаточно адекватны.
- В Калининградской области успешно функционируют несколько «серьезных» социологических организаций, как им удается делить небольшой региональный рынок?
- У каждой социологической компании есть своя ниша, причем она заполнена. Если все работают, все зарабатывают деньги, значит, есть востребованность. У «Калининградской социологической службы» изначально были свои ориентиры; исследования в сфере политики – только одна из сфер деятельности. Если бы мы работали от выборов к выборам, то в остальное время мы бы голодали.
Сейчас мы проводим много исследований для бизнеса, и хорошо, что после 2008 года бизнес проснулся и стал понимать необходимость такой работы. Когда мы начинали работать 5-6 лет назад, приходилось объяснять элементарные вещи, скажем «Почему ты разместил баннер? – Потому что это сделал сосед» и т.д. На сегодняшний день все больше компаний приходят к тому, чтобы сначала провести социологические измерения, а потом уже тратить деньги на рекламу, продвижение нового бренда и др. Это, в принципе, позитивная тенденция.
У всех калининградских социологических компаний есть очень большой потенциал развития, потому что если взять западный и российский рынки, то только для того, чтобы догнать Запад, нам еще необходимо развиваться на 80%. На сегодняшний день у нас охвачен очень небольшой сегмент рынка.
- «Калининградская социологическая служба» работает за пределами региона?
- Да, работаем, у нас есть постоянные партнеры по сотрудничеству в странах Прибалтики, также в Центральной России.
- Почему Прибалтика - это обусловлено тем, что в этих странах много русскоговорящего населения?
- Оттуда приходят заказы на маркетинговые исследования; при этом не было ни одного заказа, ориентированного именно на русскоязычное население. Речь идет об обычных товарах, услугах, туризме.
- Помимо общественно-политических, вы публикуете результаты исследований об отношении калининградцев к спорту, финансовым институтам, рейтинг СМИ. Это те проекты, на которые вам поступали заказы?
- Нет, это преимущественно инициативные проекты. Изначально нам надо было с чего-то развиваться, поэтому начинали с таких синдикативных, инициативных проектов. Нам как исследователям интересна та среда, в которой все происходит. Есть синдикативные исследования, которые мы впоследствии предлагаем заказчикам: банкам, страховым компаниям, аптекам и др. Подобные проекты мы инициировали сами, так как, к примеру, несколько лет назад банки не могли сформулировать, что им нужно.
- Конкуренты «Калининградской социологической службы» позволяют себе негативные публичные оценки в отношении ваших исследований. Как Вы это для себя объясняете?
- Вы спрашиваете о конкурентах. А я не считаю господина Алексея Высоцкого конкурентом, потому что социолог и пиарщик не могут конкурировать, так как изначально выполняют совершенно разные задачи. Один создает, делает рейтинги, второй их меряет.
Я думаю, что те цифры, которые были приведены в том интервью («В свое время «Калининградская социологическая служба» давала 70% поддержки Георгию Боссу, эти данные, можно сказать, и привели к митингам» – прим RUGRAD.EU), были взяты с потолка. Представьте себе, c рейтингом в районе 70%, можно говорить о каком-то «человеке-легенде», типа Фиделя Кастро или Ким Чен Ира. Тогда мы это интервью просто прочитали и пропустили, так как прекрасно знаем рейтинг, который мы давали фактически. У Георгия Бооса в разные периоды его работы в регионе рейтинг колебался – от 35% до 55% доверия населения.
- Известно, что вы отдельно работаете с некоторыми депутатами окружного совета Калининграда. Данная деятельность для вас - это преимущественно социология или форма политического консалтинга?
- Пиарщики депутатов с нами консультируются, мы работаем с некоторыми депутатами как окружного совета Калининграда, так и областной Думы. Они к нам обращаются, мы производим замеры. Иногда обращаются за дополнительными консультациями.
- В прошлом году администрация Калининграда провела три тендера по организации в городе масштабных социологических исследований. Тогда по двум лотам выиграл московский «Центр довузовского образования», так и не выполнивший технического задания. Вы участвовали в конкурсных процедурах?
- Это была очень интересная история. Мы участвовали в аукционе по отдельному лоту, но отвалились, так как сумма была снижена до такой степени, что все понимали, что за такие деньги невозможно организовать поле, провести исследование и т д.
Тема тендеров - достаточно больная для многих профессиональных компаний в разных сферах. Если говорить о социологических исследованиях, очень распространена практика, когда в таких аукционах участвуют, и иногда выигрывают, строительные компании, какие-нибудь московские университеты, которые никогда в жизни сюда не приедут, и ничего не будут делать.
- В БФУ им. И. Канта третий год подряд набирают студентов по специальности «социология»; каким образом получается выстраивать взаимоотношения с нашей альма-матер?
- У нас есть опыт сотрудничества, когда студенты оттуда приходили к нам на практику, но на сегодняшний день этот опыт преимущественно негативный. Пришло не очень много студентов, и это были не те люди, которые нам нужны. Очень часто их внутренние установки отличаются от тех практических задач, которые мы ставим. Будет хорошо, если из 10 пришедших студентов останется один и будет более-менее адекватно работать.
При этом мы категорически не берем студентов в качестве интервьюеров. Это обусловлено спецификой данной работы. К примеру, подойдет к взрослому человеку студент и начнет спрашивать о системе расходов, отношении к деньгам, политическим предпочтениям… Какова вероятность, что вы начнете откровенно рассказывать? А если подойдет женщина «образа матери», скажем так, в возрасте, то гораздо больше шансов, что вы с ней откровенно поговорите.
Текст: Никита Кузьмин