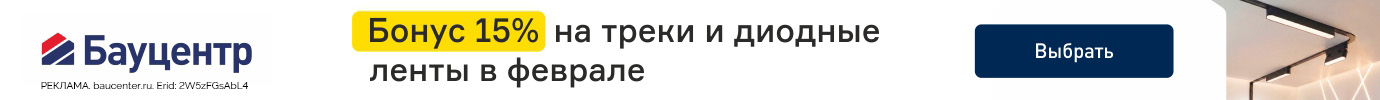/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
Тимур Гареев: Многие местные производители предпочитают вести себя как временщики

О том, какие схемы оптимизации бизнеса негласно используют калининградские промышленники, что они будут делать, когда «лавочка закроется» и почему медицинский туризм способен стать одной из надежд региональной экономики RUGRAD.EU рассказал экономист, проректор по инновационному развитию БФУ им. И. Канта Тимур Гареев.
- Вступление России в ВТО вновь становится актуальным вопросом. Может ли Калининград стать темой для принципиальной дискуссии в данном контексте? Имеет ли смысл России выменивать какие-то особые условия для Калининградской области?
- Переговоры по ВТО находятся в плоскости международного права, а соответственно, при наличии искусных переговорщиков можно много чего выторговать. Многие страны себе выторговывали хорошие условия, в том числе право развивать экономические зоны. Правда, в нашем случае (обсуждение преференций для Калининградской области в переговорах по ВТО - прим. RUGRAD.EU) может оказаться, что вопрос не такого масштаба, чтобы специально его обсуждать. Могу предположить, что Россия в переговорах не отстаивала особые преференции для Калининградской области. Почему? С одной стороны, наверное, потому что не всем нравится существование особого режима, а лучший повод его свернуть и вообразить трудно. С другой стороны, местное бизнес-сообщество не предпринимает видимых шагов по модернизации и подготовке к 2016 году, когда «лавочка» закроется. А раз так, ради чего льготы сохранять? (на данный момент позиция России по вступлению в ВТО предполагает сохранение действия переходного периода по закону об ОЭЗ до 2016 года, когда бы страна ни вступила в ВТО - прим. RUGRAD.EU).
Когда-то в торговле между США и Японией было такое понятие: «добровольное ограничение экспорта», когда японских поставщиков угрозой санкций заставляли совершенствовать технологии в США и относиться к экспорту разумно. Это, конечно, абстрактная вещь, но от региона Москва негласно ждала своего рода «добровольного ограничения импорта». Но ничего такого не произошло. Последние 15-20 лет региональное бизнес-сообщество консолидировалось вокруг одной центральной идеи – таможенные льготы нужно лоббировать. Такая установка была заложена еще при Маточкине. Но, сейчас, наверное, ситуация в стране уже изменилась, уверенности в продлении переходного периода нет, востребованы более изысканные идеи. Пока все занимаются институциональными вещами, чисто законодательными, трудно переключиться на вопрос, а имеет ли эксклавная область сильные преимущества, чтобы специализироваться на производстве современных торгуемых товаров (товаров, которые являются предметом экспортно-импортных операций – прим. RUGRAD.EU).
Тем не менее, мне кажется, уже можно смело начинать поиск новых вариантов, на чем можно устойчиво специализироваться (даже при поддержке федеральной власти). Может, стоило бы все-таки больше на интеллектуальный сервис налегать? Не просто на туристический, а, скажем, на «медицинский туризм»: на регенеративную, реабилитационную и рекреационную медицину. У данных направлений есть экспортный потенциал. Примером тому поляки – они в этом направлении сейчас очень активно работают, многих в Европе опередили.
Если развивать компетенции в сфере медицины, то их не так просто скопировать, и риски от вступления в ВТО в данном случае не столь остры. Область в этом смысле может конкурировать по цене и по природно-климатическим характеристикам: можно «притащить» неплохие кадры из России и из других стран бывшего Советского союза. Когда территория будет позиционироваться как место, где есть хорошие клиники и санатории, хорошая медицинская наука, то смежные отрасли легче будет развивать – и транспорт, и гостеприимство. Ведь один из принципов устойчивого экономического развития, это когда успех одного предприятия распространяется на другие, и наоборот.
Тут есть много чему возразить с позиции сегодняшнего дня. И местная медицина слаба, и транспорт не тот, и визовые проблемы. Но я убежден, если правильно позиционировать область, то лоббировать инициативы по обеспечению транспортной доступности легче, чем, скажем, сохранение таможенных льгот. Медицина – дело богоугодное, и вряд ли федеральный центр опротестует такую специализацию территории. С точки зрения любых политических амбиций она может пройти «на ура!». Это не перетаскивание импорта через три границы, которое всегда будет в группе риска.
Возвращаясь к теме ВТО, могу сказать, что у региона всегда были довольно убедительные лоббисты, которые могли отстаивать ее интересы или хотя бы обоснованно аргументировать позицию Калининграда. Но сегодня, в нынешней парадигме экономического и государственного мышления, очень трудно представить сильные аргументы за то, чтобы биться за наши льготы в рамках переговоров по ВТО.
Я это говорю, прекрасно понимая, что на самом деле у многих регионов есть свои локальные экономические зоны с немалыми преференциями, которые устанавливаются конкретным предприятиям (вспомним Липецкую, Калужскую, Белгородскую области, например). Есть и локальные зоны, созданные в рамках федерального закона об ОЭЗ. Но особая «территориальность» нашей свободной таможенной зоны, за которую мы так бились, сегодня стала проблемой политической.
- То есть нашим основным оружием остается, по сути, простой политический шантаж: «Не дадите льгот, мы все здесь поумираем, и это будет на вашей совести»?
- Да, я об этом и говорю. Только сразу оговорюсь – я не считаю, что это «шантаж» в полной мере. Тем более «простой». Я лишь говорю о том, что сама реальность и ее восприятие существенно изменились за эти годы. А позиция региона – не очень. Поэтому сегодня такой «политический шантаж» сложно реализуем на практике. Кроме того, не нужно забывать, что конец переходного периода ведь не завтра наступает. Если какие-то производственные проекты начинаются сейчас, то у них есть шанс окупиться, 5 лет – это не такой маленький срок. К тому же, насколько мне известно, речь пока не идет об отмене налоговых льгот, которые сохранятся и после 2016 года.
- Вступление России в ВТО, как, впрочем, и окончание переходного периода, говорит о том, что область будет производить на тех же условиях, что и все остальная Россия. Однако очевидно, что издержки калиниградцев по сравнению с остальными российскими игроками при транспортировке продукции на российский рынок ощутимо выше.
- Я бы не был так категоричен, что это очевидно. Такое предположение вполне естественно по отношению к центральной России, но вспомните, например, Владивосток. Поразительно, но среди огромного количества публикаций об особенностях экономики Калининградской области последних 20 лет, по крайней мере, мне не известны примеры удовлетворительного количественного анализа этих самых дополнительных издержек. У меня, например, складывается ощущение, что калининградский бизнес не только компенсирует издержки, но и дополнительно субсидируется. Те бизнес-контуры, которые сегодня выстроили калининградские компании, все-таки имеют возможность изымать ренту. Как жителю области, мне это, может быть, даже и выгодно, но как исследователю отнюдь не «очевидно».
С другой стороны, только практики и только на качественном уровне могут оценить реальные риски, которые таит в себе избыточный таможенный контроль. К сожалению или к счастью, но четко доказать, как складывается баланс между количественными и качественными переменными, никому пока не удалось. Для этого нужен серьезный экспертный отраслевой анализ, который является рутинной и довольно дорогой задачей. Мы раньше пробовали писать книжки на эту тему, но полученные модели меня не совсем удовлетворяют. В том числе и потому, что мы слишком упрощаем влияние таможенных и налоговых органов и недооцениваем такие характеристики эксклава, как трудности внутристрановой (и межрегиональной) торговли. Я сам был бы рад, если бы ваши читатели высказались по данной проблеме, привели какие-то конкретные примеры или количественные оценки.
- И все же, каковы результаты ваших изысканий?
- Едва ли транспортные расходы, о которых сейчас часто вспоминают, «запретительно высоки». Даже с учетом того, что можно нарваться на проблемы с таможней или на другие административные барьеры. Есть примеры, когда резиденты начинают что-то реально производить на территории региона, и у них резко падает себестоимость и возникает дополнительный запас прочности. Те, кто сегодня заявляет о колоссальных издержках, наверное, даже не планировали углублять переработку. А вот у тех, кто инвестировал в нормальное производство, себестоимость упала, и проблема транспорта стала менее актуальной. По факту получается так, что производимый на территории области элемент обходится в 3-4 раза дешевле, чем купленный на открытом рынке. И транспортная составляющая не может превысить реальной экономии от собственного масштабного производства. Другой вопрос, что даже при достаточно низкой себестоимости и с учетом всех дополнительных налоговых льгот трудно конкурировать с китайским производством. И вот это является, на мой взгляд, ключевой проблемой.
Еще есть проблема в том, что в момент прекращения таможенных льгот (по любой причине) внутренний региональный рынок еще раз может пережить достаточно серьезный рост цен – около 10%. Это связано с одним из самых загадочных вопросов нашей экономики – льготой по НДС. Раньше ей активно пользовались сети, а теперь только малые торговые предприятия. Не очень понятно, почему у нас розничная цена - скажем, на продукты - сопоставима (а то и выше) с теми территориями, где таких льгот в помине не было. Значит, сравнительная экономия где-то оседает. И никто не может (или не хочет) рассказать, где именно. А может быть, объяснение в другом – внутри «большой» России и Белоруссии есть такие таможенные и налоговые дыры, которые перекрывают наши льготы. Очень трудно оценить, что дает больший вклад в проблему цен – влияние региональной олигополии торговых сетей и оптовиков или ситуация на внутрироссийском оптовом рынке.
Еще один момент – наша ОЭЗ очень велика по сравнению с другими зонами, локализованными, по сути, в границах промплощадок (ее границы совпадают с границами региона и с государственными границами России), в то же время продукция других российских ОЭЗ сразу работает на общероссийском рынке. Значительная же часть продукции предприятий, работающих под калининградскими льготными режимами, вынужденно ориентируется только на региональный рынок.
- Как раз об этом говорили заседании ТПП с участием губернатора Калининградской области в декабре прошлого года, но вопрос как-то быстро замяли…
- Да, этот вопрос подымала Александра Смирнова (в конце минувшего года экс-министр экономики Калининградской области Александра Смирнова, отвечая на вопрос губернатора Николая Цуканова, рекомендовала искать причины высокой стоимости продуктов питания на территории Калининградской области в ценовой политике калининградских розничных сетей. Тогда в дискуссию вмешался министр развития инфраструктуры области и основатель торговой сети «Вестер» Александр Рольбинов и обвинил Александру Смирнову в некомпетентности – прим. RUGRAD.EU). Ответ был весьма расплывчатый, в том духе, что «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Очевидно, мы не понимаем всех тонкостей этого бизнеса, но как аналитик она задала вполне адекватный вопрос, который интересовал многих: где оседают доходы от сэкономленного НДС? И получила неадекватный и неудовлетворительный ответ.
Я, например, задавался вопросом: во сколько нам обходится наша эксклавность на уровне отдельных бизнес-контуров, квазикластеров, подотраслей? Во сколько на уровне себестоимости конкретных изделий обходятся эти дополнительные «транспортные расходы»? Ведь, с точки зрения «чистой» экономики, никаких «особых издержек» больше и не просматривается (хотя иногда называют повышенные тарифы на энергоносители). Расчет показал, что диапазон «издержек экславности» составляет от 2 до 7% себестоимости. Разброс настолько велик, что это не очень похоже на точную аналитику, скорее на экспертную оценку. Промышленники могут сказать, что такая разница в ценах может убить почти любую бизнес-модель. Однако если мы посмотрим на реальные наценки в системе, на рентабельность, на темпы роста производства, то можем придти к выводу, что совокупный набор льгот гибридных бизнес-контуров перекрывает затраты на эксклавность. И вполне возможно, что транспортные издержки перекрываются только льготами резидентов ОЭЗ. Совокупные же льготы гибридных моделей отыгрывают 4-11%, при 2-7%-й себестоимости дополнительных расходов на эксклавность. Другое дело, что кто-то может получить возможность изъятия дополнительной ренты, а какие-то виды бизнеса совсем не представлены в регионе. Поэтому у нас и развивались такие модели, которые очень хорошо находили баланс между таможенным кодексом и соответствующими льготами. Но как только возможность изъятия ренты исчезает, такие бизнес-контуры моментально сворачиваются.
- Вы затронули тему гибридных моделей, то есть когда в один бизнес-контур вводится две компании, имеющие доступ к использованию различных типов льгот…
- Не обязательно две. Иногда практикуется параллельное использование трех режимов, а компаний может быть еще больше. Можно дополнительно использовать различные косвенные режимы, например, формально трудоустраивать инвалидов. Гибрид – это своего рода группа из нескольких юридических лиц, которые пользуются различными типами льгот – одни таможенными, другие налоговыми – и оказывают друг другу услуги, продают сырье и комплектующие. В результате появляется возможность влиять на соблюдение нормы добавленной стоимости, которое требуется для беспошлинного импорта, ощутимо снижается общая налоговая нагрузка на весь бизнес-контур. Основой их существования теоретически является то, что «юридическое лицо» и «экономическая фирма» в современной экономике – это далеко не одно и то же.
Косвенно проследить, кто так работает, можно, если проанализировать список резидентов ОЭЗ Калининградской области. За небольшим исключением группы компаний, которые работали в области и до 2006 года, открыли при себе резидента. А вновь пришедшие купили компании, которые были зарегистрированы до 2006 года. Логично предположить, что данные группы используют больше чем один льготный режим. Если мы смотрим в список из 60 резидентов, то там всего несколько компаний, которые работают в принципиально новых направлениях. Значит, все остальные просто перегруппировались и дополнительно снизили свою налоговую нагрузку.
- А как на деле может выглядеть такая схема?
- Я думаю, многие считают такую схему очевидной, но детальных описаний и схем вы, скорее всего, не найдете в открытой печати. Суть гибрида может быть такая. Резидент ОЭЗ инвестирует в производственные фонды, ставит имущество на баланс, продает произведенные товары аффилированной компании (при желании может даже сдавать имущество в аренду, закон этого не запрещает). Резидент может не бояться показать большую прибыль, так как имеет льготу по налогу на прибыль (и на имущество). Если вторая фирма покупает товары и услуги по завышенным ценам, то тем самым увеличивается себестоимость ее собственных видов деятельности. Со стороны это может выглядеть как «углубление переработки». Естественно предположить, что «углубляющая переработку» компания работает в переходном режиме и пользуется таможенными льготами.
Все телевизионщики пытались использовать возможность применения нескольких режимов, пока их не накрыло (речь об обнулении таможенных ставок на комплектующие для сборки телевизоров в 2009 году для всех российских производителей – прим. RUGRAD.EU).
Такие схемы, по большому счету, универсальны. Их можно усложнять, накручивать, но суть от этого не меняется. Можно вводить по нескольку резидентов в один контур. А можно нанимать инвалидов. Если владелец контура единый, то ему без разницы, откуда изымать прибыль. Он считает суммарную доходность, которую видит только он. Когда ты находишься внутри контура, то можешь использовать так называемое «трансфертное ценообразование» и внутрикорпоративные расчеты по ценам, которые отличаются от рыночных. Где-то в пределах 15-20% можно варьировать совершенно спокойно.
Большинство предприятий пытаются выжать из льгот все соки до конца, хотя бизнес, наверное, так и должен делать… Это с позиции «классической» экономики. Но ведь льготы – это не совсем классический (совсем не классический) экономический механизм. Поэтому многим местным производителям проще инвестировать в защиту сложившейся политической модели, как это у нас часто делается, чем углублять переработку. Однако в широком социально-политическом контексте такое поведение не является ответственным. Хотя нужно отдать должное – есть и исключения. Например, на предприятиях гусевского комплекса стараются углублять реальную переработку, готовятся к расширению экспорта.
- Когда в 2016 году закончится возможность применять такого рода схемы, чьи шансы выжить будут наибольшими?
- Это трудный и, пожалуй, провокационный вопрос. Я верю в самовыполняющиеся прогнозы и роль ожиданий в экономике. Микроэлектроника, думаю, окажется в сложном положении, но будет конкурентоспособна. Вероятно, выживут пищевики, в том числе и производители консервов и полуфабрикатов. Судостроители – если сумеют диверсифицировать производство. Компании, которые обслуживают данные сектора (поставщики упаковки, сырья для компонентов), вполне устойчивы. Вопрос вступления в ВТО тем и сложен, что его проблематично анализировать, как говорится, в общих терминах. Там нужно биться за каждую товарную позицию. Все применяемые у нас в области бизнес-схемы различны по уровню зависимости от таможенных пошлин. Каждую нужно анализировать отдельно, и с каждой работать отдельно.
- Но как все-таки мы будем работать на российском рынке, если условия сравняются?
- Когда я называл цифры 2-7% дополнительных затрат, я имел в виду принцип «при прочих равных». Если же мы рассматриваем реальную ситуацию, то у наших предприятий есть преимущество - еще 5 лет на то, чтобы окупить введенные мощности, модернизировать технологию. А честно говорить, какая у его компании фактическая рентабельность и из чего она складывается, вам никто не обязан.
Если послушать внимательно, что говорят представители бизнеса, члены ТПП, то окажется, что большинство вопросов касается даже не производственной себестоимости. Всех беспокоят административные барьеры, непредсказуемость правил игры и т.п., из-за чего постоянно возникают искусственные и необоснованные издержки.
Если мы говорим о перспективах товарного производства в регионе, то единственный путь, который просматривается – реальное углубление переработки.
- Проблемы административных барьеров регулярно поднимают, например, «Продукты Питания». Однако именно они-то и обещают инвестировать - к примеру, в строительство птицефабрики.
- Всех давно призывают идти вглубь и кооперировать, потому что это правильно. Другое дело – как это обеспечить, как развивать сложные инновационные виды бизнеса? Я не говорю, что птицефабрика – это простой бизнес. Любой добросовестный бизнес по-своему сложен и заслуживает всяческого уважения. Я говорю о том, что области понадобятся принципиально новые виды бизнеса. В этой связи придерживаюсь мнения, что с выводом бизнеса на принципиально новый уровень проблемы такие же, как и с любым другим делом, которое требует международного признания. Здесь работает такой экономический закон – контроль в обмен на развитие. Хочешь развиваться - придется поступиться частью контроля.
Когда ты приспособился к правилам игры, есть привычная структура себестоимости, сложившиеся рутины, налаженные связи, очень сложно себе представить ситуацию, когда этого не будет. Возможно, здесь уместна аналогия даже с обычным человеком, который привык делать что-то на обычном локальном уровне. Вот вы, например, писали когда-нибудь для иностранных журналов?
- Нет.
- А почему бы вам сейчас не сеть и не начать писать, например, для New York Times? Что вас останавливает? Сложный вопрос? С любым бизнесом, если грубо утрировать, происходит примерно то же самое. Поэтому у нас никто не любит проводимую нынче политику «принуждения к инновациям».
Предприниматели, которые создали производство с целью импортозамещения, не сразу готовы переключиться на внешние рынки. У нас открытие и обычного производства – большой успех. А некоторые бизнес-модели никогда и не собирались работать на экспорт. Это совершенно другая технологическая и психологическая категория.
Иногда высказывается мнение, что у российского рынка большой потенциал, что только на росте российского рынка можно еще долго работать. Например, Стефано Влахович (президент компании «Продукты питания», специализирующейся на производстве полуфабрикатов из импортного сырья, - прим. RUGRAD.EU) не раз заявлял, что приглашал в область много мировых производителей, которые могли бы выстраивать цепочки по глубокой переработке. Просто он пока не смог их убедить, что стоит в Калининграде рискнуть. Во многом все это из-за тех же административных барьеров.
- Каких именно барьеров?
- Примеров много. Все, что тормозит бизнес-процессы. Ключевые проблемы касаются таможенного и налогового контроля. Особенно постоянной угрозы избирательного и жесткого применения такого контроля. В бизнесе, как говорят, самое главное – это время. Если принято решение об инвестировании, нужно очень быстро начать – получить место, подключиться, построится, запустить линию, пригласить нужных людей на работу. Ты не можешь остановиться. Нужно быстро нанять на работу иностранца, если он тебе нужен. Не может завод стоять и ждать пока один человек оформит все миграционные документы. Когда мы сравниваем Калининград с другими регионами и странами «при прочих равных», нужно понимать, что в другом месте таких проблем может и не быть.
Для нас это может казаться диким, но многие люди просто опасаются ехать в Калининград, особенно иностранные специалисты. Это касается не только бизнеса. Даже по примеру БФУ им. И. Канта могу сказать, что для создания современного университета международного класса нам многие препятствия и барьеры необходимо быстро снимать, особенно по приглашению ведущих специалистов в регион.