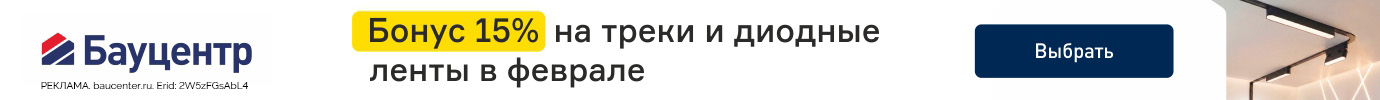/home/bitrix/ext_www/rugrad.online/interview/sect_inc_top.php
Илья Пономарев: Легче сказать, кто «не давит»

Над чем сегодня работает комитет, членом которого вы являетесь? Какие законопроекты, на ваш взгляд, являются наиболее спорными или агрессивно «продавливаемыми»?
Специфика работы нашего комитета в Государственной Думе достаточно сильно отличается от других комитетов. Фактически мы работаем во внепартийном режиме. У нас в комитете представители практически всех фракций, однако я ни разу не замечал, чтобы в работе эта фракционная принадлежность проявлялась. Разговоры носят достаточно профессиональный характер. Активную работу ведут тот же Комиссаров, Кобзон, Говорухин, Резник, один из бывших руководителей «СвязьИнвеста» - Горбачёв, Хинштейн, то есть люди, которые «в теме». Мы просто приняли решение сопротивляться любым попыткам переписать те законы, которые долго и мучительно принимались. Нам кажется, постоянство законодательства, то есть неизменность правил игры, должно быть приоритетно. Тем более, что международные эксперты констатруют, что наш закон о СМИ и закон о связи являются одними из лучших в мире. Понятно, что всегда есть возможность для злоупотребления, в том числе и в рамках предвыборных кампаний, но это, как правило, вопрос правоприменительной практики.
Мы очень долго сопротивлялись изменению закона о СМИ, но количество попыток его изменить, тот есть число вносимых поправок, стремительно росло. Мы их отклоняли, а оно всё равно росло. Кроме того, сейчас объективно назрела необходимость в его корректировке ввиду возникновения цифрового телевидения. Конвергенция информационных ресурсов также подталкивает нас к совершенствованию законодательства, вследствие чего полгода назад была сформирована рабочая группа по новому закону о СМИ во главе с Олегом Морозовым. Новый закон пишут те же люди, что и писали старый. Мы отправили ряд сырых предложений на рассмотрение в Правительство, соответственно, рассматриваться они будут достаточно долго, но, тем не менее, новый закон уже в работе.
Сейчас мы находимся в состоянии дискуссии, принимать нам или нет отдельный закон по цифровому телевидению или ограничиться поправками в действующее законодательство. Что в конце концов получится, неясно. Позиция Правительства состоит в том, что новый закон не нужен, а представители отрасли и нашего комитета, наоборот, считают, что он необходим.
Крайне важным является проект закона об инсайдерской информации, над которым сейчас ведётся работа. Позиция комитета по отношению к проекту, который вносит Правительство — отклонять, потому что он написан плохо. Сейчас мы призываем общественность принять максимальное участие в правке данного документа, потому что данный закон при недостаточном её внимании может превратиться в механизм цензуры.
Делает ли что-нибудь комитет в сфере регламентации отношений в Интернете?
Вопрос касательно воровства информационного контента интернет-изданий, действительно, есть. В Москве они друг на друга постоянно «наезжают» по поводу отсутствия ссылок, и поправки, которые сейчас принимаются в закон об авторском праве, как раз и призваны их решить, чтобы обвинения не приводили к внутренним разборкам, а заканчивались законодательно регламентированным решением конфликта.
Полгода назад со стороны ряда деятелей из Совета Федерации и региональных законодательных собраний начали предприниматься активные попытки признать любой интернет-ресурс средством массовой информации и подвергнуть их обязательному лицензированию со всеми вытекающими правилами, действующими на рынке СМИ. Интернет-общественность по этому поводу начала возмущаться, и мы для себя приняли решение оттягивать разрешение данного вопроса настолько, насколько это возможно. Мы считаем, что законодательство должно следовать за правилами игры, складывающимися на рынке, а не формировать эти правила. Мы не считаем, что на данный момент интернет-среда уже сложилась и ей уже нужны определённые правила её регламентации. Моя личная точка зрения заключается в том, что Интернет — это канал распространения информации, а не какое-то медийное пространство. Поэтому, если какой-либо интернет-ресурс по какой-либо причине считает нужным лицензировать свою деятельность как СМИ, то он может легко это сделать, и если, наоборот, автор какого—либо портала считает размещаемую у себя информацию своей личной точкой зрения, то они должны иметь возможность этого не делать. Если сделать обязательной регистрацию, то впоследствие её достаточно легко будет превратить, опять же, в инструмент цензуры, чего бы не хотелось. Крайне важным в споре о том, является ли Интернет-издание средством массовой информации или нет, является сам процесс конвергенции, то есть процесс слияния всех информационных носителей. Понятно, что через 10 лет не будет разницы между газетой, Интернет-порталом или телеканалом. Всё это будет одним и тем же. То есть один и тот же контент можно будет получать различными способами. Это и есть основной фактор, толкающий нас на принятие нового закона о СМИ, который предполагает введение нового понятийного аппарата.
Уже сейчас виден ряд коллизий, которые могут возникнуть впоследствие. Вот допустим, есть кабельный оператор, который распространяет телевизионный сигнал, но в то же самое время мы смотрим, скажем, «Первый канал». При этом непонятно, кто в этой ситуации является вещателем - «Первый канал» или кабельный оператор. Это очень важно, когда встаёт вопрос о том, кому платить отчисления за использование авторских прав. В принципе, кабельный оператор — это только телекомуникационная тема, то есть связисты, но как только они будут запускать свою рекламу, тем самым формируя собственный контент, они уже становятся телеканалом. То же самое происходит сейчас и с мобильными вещами и технологией 3G, с помощью которой можно просматривать ТВ-контент. Здесь вообще становится сложный вопрос: мобильный оператор — это телеканал или транслирующая компания? С интернетом и транслируемым через него телевидением та же самая история. Одно дело, когда это нечто подобное и бесплатное, как «YouTube», а другое - если транслируется «Первый канал». Как мне кажется, все вопросы о том, является ли Интернет средством массовой информации или нет, должны будут решаться именно через эту тему.
А кто конкретно «давит»?
Говоря о том, кто давит на то, чтобы интернет-издания признать СМИ, легче сказать, кто не давит. Пожалуй, только члены нашего комитета и представители интернет ресурсов и не давят. Из администрации президента постоянно приходят соответствующие документы, из региональных законодательных собраний, сенаторов Совета Федерации. Все себя считают профессионалами и считают необходимым в данный процесс вмешаться.
Насколько стремительно растет интерес аудитории к интернет-СМИ?
Пока есть устойчивая, хоть и демонстрирующая близость к насыщению, тенденция перераспределения аудитории СМИ в сторону Интернета. Уменьшается число подписчиков газет. Допустим, в США с прошлого года источником новостей номер один стал Интернет. Популярность сети продолжает расти во всех странах, причём Россия здесь в числе передовиков, и по уровню проникновения Интернета в том числе. Конечно, пока Интернет у нас не первичный источник получения информации, но все к этому движется. Скоро телевизор, компьютер, мобильный телефон, в сущности, будет одним и тем же. Печатный носитель и электронный носитель в течение 10 лет сольются в одно устройство.
Слава I-phone дошла и до Калининграда, однако вопрос о том, насколько функция 3G необходима обычным пользователям смартфонов, повис в воздухе, так как сети как таковой у нас нет. Может, вы знаете, когда она появится на территории региона?
В экспериментальном режиме этот формат работает в Москве, Петербурге и ещё ряде российских городов. В Калининграде работает 2,5G - «Скайлинк», который делает необходимость перехода на 3G не столь актуальной. Во всем мире опросы показывают, что 3G-технология не стала локомотивом обновления информации на мобильных устройствах. Фактически она увеличивает скорость подключения, но в конечном счете узким местом в передаче информации является качество сотовой сети самих операторов. Лично мой телефон работает 3G всего в нескольких пятнах на территории России. Кроме того, могу сказать, что разница между действующей технологией EDGE и 3G не столь велика, чтобы стать причиной массовой смены дорогостоящего оборудования. I-phone люди у нас покупают не потому, что он 3G, а потому, что он красивый и удобный. Уровень продаж I-phone у нас значительно меньше, чем, скажем в США, однако это связано в основном с меньшей популярностью технологий Apple, под что он и заточен. Там Apple контролирует 8-9% рынка персональных компьютеров. У нас же их продается на порядок меньше, то есть менее 1%. I-phone — это, прежде всего, интеграция в целую систему, что американцы, в общем-то, и ценят. С другой стороны, уровень проникновения смартфонов у нас выше, чем в самой Америке. У них I-phone был первопроходцем, и отчасти поэтому там творилась такая истерика по его поводу. К нам же он пришёл значительно позже, практически на год. В результате сливки снять не получилось.
Ранее вы оговорились о правительственной инициативе по началу разработки электронной системы голосования на территории страны. Сколь вероятно воплощение в жизнь данной идеи?
Недавно центральная избирательная комиссия активизировала работу по разработке системы организации интернет-голосования в России. По словам одного депутата, данная инициатива может привести к возникновению в стране прямой демократии, а проведение референдумов станет легко осуществимо с технической точки зрения. При этом, такие изменения могут серьезно отразиться на функциональности представительных органов власти. Если «задумка» будет реализована, то власть и общество получат канал оперативного взаимодействия. Россия вполне может оказаться пионером на этом поприще, опередив США. Самой большой сложностью в обеспечении процесса интернет-голосования является не обеспечение точного учета проголосовавших, то есть того, чтобы человек один раз проголосовал только от своего имени, а конфиденциальность процедуры. Иначе говоря, сейчас ищутся пути решения того, чтобы властные структуры после выборов не знали, кто и за кого голосовал.
Недавно один калининградский интернет-портал подвергся массированной хакерской атаке. Кто несёт ответственность за предотвращение и расследование результатов такого рода нарушений?
Расследование правонарушений в сети Интернет находится в зоне ответственности управления «К» ФСБ. Хакерские атаки, нарушающие работу интернет-ресурсов, являются типичным проявлением такого рода правонарушений. Однако, фактически расследование этих правонарушений осуществляется далеко не всегда по причине невысокой штатной численности соответствующего управления. Я думаю, если бы руководители этого управления обратилось в вышестоящие органы, то они бы легко могли найти встречное понимание по расширению штатной численности. Вообще, сотрудникам интернет-сайтов самим рекомендуется обращаться в соответствующие органы с заявлением о хакерской атаке.
Как правило, основное внимание сотрудники данного подразделения уделяют расследованию более тяжких преступлений, таких как, например, распространение детской порнографии или организация террористических атак. Что касается атак на интернет-сайты, то, как правило, выявить источник их возникновения для сотрудников соответствующего ведомства достаточно легко.
Вы сказали о том, что сейчас профильный комитет работает над законом об инсайдерской информации. Что он будет из себя представлять?
Закон об инсайдерской информации призван разрешить целый ряд проблем. Например, существует определённый курс акций, и какой-либо человек - журналист или сотрудник компании - получил по своим каналам информацию о финансовом состоянии публичной компании, например, позитивную. После он купил пакет акций компании и опубликовал имеющуюся у него информацию. Соответственно, курс акций поднялся и этот человек их продал. То есть возникло недобросовестное манипулирование мнением людей. Кроме того, может оказаться, что информация была секретной или недостоверной.
Второй пример. Госслужащий владеет информацией о том, что скоро где-то начнёт строиться определённый важный объект, соответственно, он в том или ином виде начинает скупать участки, находящиеся неподалёку. Опять-таки, возникло недобросовестное зарабатывание денег. Сейчас такие вещи в России происходят направо и налево. Во многих странах такого рода законы действуют, например в США, где закон об инсайдерской информации очень жёсткий. В России такого закона нет, поэтому многие госчиновники на этом хорошо зарабатывают. Например, основой заработка сотрудников министерства финансов как раз и являются такого рода доходы. Новый закон призван это пресечь.
Другой вопрос, что проект закона настолько расширительно трактует доступ к информации, что сейчас, сидя перед вами, я разглашаю инсайдерскую информацию о планах комитета. Согласно той редакции закона, в которой он внесен в Госдуму, мы оба ответственны, и я вам вообще ничего рассказать не могу. При этом, не только мы, но и любой государственный чиновник или любой журналист. Понятно, как в реальности это будет работать. Когда кто-то кого-то попробует покритиковать, то трактоваться это будет уже как злонамеренное распространение информации с «умыслом повлиять на рынок», а потом неугодных журналистов посадят.
Против этого сейчас восстало все медийное сообщество, поэтому я надеюсь, что данный закон в том виде, в котором он внесен в Думу, нам удастся похоронить. Однако данный закон является частью антикризисных мер, и уже в весеннюю сессию, я думаю, он будет принят. 1 июля он уже должен будет действовать. Если общество будет сидеть и молчать, то его «продавят» в том виде, что он есть сейчас. Наша «Партия» же может принять любое решение, например, через окно в дом заходить. Потом все так и будут ходить.
Как вы оцениваете уровень развития местной Интернет-среды?
Уровень развития медийного рынка Калининградской области ниже среднероссийских показателей. Основной причиной сложившейся ситуации, как мне кажется, является относительно низкий уровень проникновения информационных технологий. С другой стороны, по числу работающих Интернет-сайтов Калининградская область находится в середине списка регионов. Кто у вас их здесь читает, я не знаю, но они есть. То есть Калининград — типичный середнячок. До лидеров далеко. Недавно в Ханты-Мансийске состоялась конференция, на которой Калининград приводился в виде негативного примера по уровню поддержки населением региона создания системы электронного правительства. Всего несколько процентов одобряют данную инициативу, а 80% категорически против. Мне кажется, так происходит из-за того, что руководство области мало внимания уделяет данной теме. С другой стороны, может быть, не все люди знают, что такое электронное правительство, и переносят свое отношение к власти в целом на данную технологию.
Специфика работы нашего комитета в Государственной Думе достаточно сильно отличается от других комитетов. Фактически мы работаем во внепартийном режиме. У нас в комитете представители практически всех фракций, однако я ни разу не замечал, чтобы в работе эта фракционная принадлежность проявлялась. Разговоры носят достаточно профессиональный характер. Активную работу ведут тот же Комиссаров, Кобзон, Говорухин, Резник, один из бывших руководителей «СвязьИнвеста» - Горбачёв, Хинштейн, то есть люди, которые «в теме». Мы просто приняли решение сопротивляться любым попыткам переписать те законы, которые долго и мучительно принимались. Нам кажется, постоянство законодательства, то есть неизменность правил игры, должно быть приоритетно. Тем более, что международные эксперты констатруют, что наш закон о СМИ и закон о связи являются одними из лучших в мире. Понятно, что всегда есть возможность для злоупотребления, в том числе и в рамках предвыборных кампаний, но это, как правило, вопрос правоприменительной практики.
Мы очень долго сопротивлялись изменению закона о СМИ, но количество попыток его изменить, тот есть число вносимых поправок, стремительно росло. Мы их отклоняли, а оно всё равно росло. Кроме того, сейчас объективно назрела необходимость в его корректировке ввиду возникновения цифрового телевидения. Конвергенция информационных ресурсов также подталкивает нас к совершенствованию законодательства, вследствие чего полгода назад была сформирована рабочая группа по новому закону о СМИ во главе с Олегом Морозовым. Новый закон пишут те же люди, что и писали старый. Мы отправили ряд сырых предложений на рассмотрение в Правительство, соответственно, рассматриваться они будут достаточно долго, но, тем не менее, новый закон уже в работе.
Сейчас мы находимся в состоянии дискуссии, принимать нам или нет отдельный закон по цифровому телевидению или ограничиться поправками в действующее законодательство. Что в конце концов получится, неясно. Позиция Правительства состоит в том, что новый закон не нужен, а представители отрасли и нашего комитета, наоборот, считают, что он необходим.
Крайне важным является проект закона об инсайдерской информации, над которым сейчас ведётся работа. Позиция комитета по отношению к проекту, который вносит Правительство — отклонять, потому что он написан плохо. Сейчас мы призываем общественность принять максимальное участие в правке данного документа, потому что данный закон при недостаточном её внимании может превратиться в механизм цензуры.
Делает ли что-нибудь комитет в сфере регламентации отношений в Интернете?
Вопрос касательно воровства информационного контента интернет-изданий, действительно, есть. В Москве они друг на друга постоянно «наезжают» по поводу отсутствия ссылок, и поправки, которые сейчас принимаются в закон об авторском праве, как раз и призваны их решить, чтобы обвинения не приводили к внутренним разборкам, а заканчивались законодательно регламентированным решением конфликта.
Полгода назад со стороны ряда деятелей из Совета Федерации и региональных законодательных собраний начали предприниматься активные попытки признать любой интернет-ресурс средством массовой информации и подвергнуть их обязательному лицензированию со всеми вытекающими правилами, действующими на рынке СМИ. Интернет-общественность по этому поводу начала возмущаться, и мы для себя приняли решение оттягивать разрешение данного вопроса настолько, насколько это возможно. Мы считаем, что законодательство должно следовать за правилами игры, складывающимися на рынке, а не формировать эти правила. Мы не считаем, что на данный момент интернет-среда уже сложилась и ей уже нужны определённые правила её регламентации. Моя личная точка зрения заключается в том, что Интернет — это канал распространения информации, а не какое-то медийное пространство. Поэтому, если какой-либо интернет-ресурс по какой-либо причине считает нужным лицензировать свою деятельность как СМИ, то он может легко это сделать, и если, наоборот, автор какого—либо портала считает размещаемую у себя информацию своей личной точкой зрения, то они должны иметь возможность этого не делать. Если сделать обязательной регистрацию, то впоследствие её достаточно легко будет превратить, опять же, в инструмент цензуры, чего бы не хотелось. Крайне важным в споре о том, является ли Интернет-издание средством массовой информации или нет, является сам процесс конвергенции, то есть процесс слияния всех информационных носителей. Понятно, что через 10 лет не будет разницы между газетой, Интернет-порталом или телеканалом. Всё это будет одним и тем же. То есть один и тот же контент можно будет получать различными способами. Это и есть основной фактор, толкающий нас на принятие нового закона о СМИ, который предполагает введение нового понятийного аппарата.
Уже сейчас виден ряд коллизий, которые могут возникнуть впоследствие. Вот допустим, есть кабельный оператор, который распространяет телевизионный сигнал, но в то же самое время мы смотрим, скажем, «Первый канал». При этом непонятно, кто в этой ситуации является вещателем - «Первый канал» или кабельный оператор. Это очень важно, когда встаёт вопрос о том, кому платить отчисления за использование авторских прав. В принципе, кабельный оператор — это только телекомуникационная тема, то есть связисты, но как только они будут запускать свою рекламу, тем самым формируя собственный контент, они уже становятся телеканалом. То же самое происходит сейчас и с мобильными вещами и технологией 3G, с помощью которой можно просматривать ТВ-контент. Здесь вообще становится сложный вопрос: мобильный оператор — это телеканал или транслирующая компания? С интернетом и транслируемым через него телевидением та же самая история. Одно дело, когда это нечто подобное и бесплатное, как «YouTube», а другое - если транслируется «Первый канал». Как мне кажется, все вопросы о том, является ли Интернет средством массовой информации или нет, должны будут решаться именно через эту тему.
А кто конкретно «давит»?
Говоря о том, кто давит на то, чтобы интернет-издания признать СМИ, легче сказать, кто не давит. Пожалуй, только члены нашего комитета и представители интернет ресурсов и не давят. Из администрации президента постоянно приходят соответствующие документы, из региональных законодательных собраний, сенаторов Совета Федерации. Все себя считают профессионалами и считают необходимым в данный процесс вмешаться.
Насколько стремительно растет интерес аудитории к интернет-СМИ?
Пока есть устойчивая, хоть и демонстрирующая близость к насыщению, тенденция перераспределения аудитории СМИ в сторону Интернета. Уменьшается число подписчиков газет. Допустим, в США с прошлого года источником новостей номер один стал Интернет. Популярность сети продолжает расти во всех странах, причём Россия здесь в числе передовиков, и по уровню проникновения Интернета в том числе. Конечно, пока Интернет у нас не первичный источник получения информации, но все к этому движется. Скоро телевизор, компьютер, мобильный телефон, в сущности, будет одним и тем же. Печатный носитель и электронный носитель в течение 10 лет сольются в одно устройство.
Слава I-phone дошла и до Калининграда, однако вопрос о том, насколько функция 3G необходима обычным пользователям смартфонов, повис в воздухе, так как сети как таковой у нас нет. Может, вы знаете, когда она появится на территории региона?
В экспериментальном режиме этот формат работает в Москве, Петербурге и ещё ряде российских городов. В Калининграде работает 2,5G - «Скайлинк», который делает необходимость перехода на 3G не столь актуальной. Во всем мире опросы показывают, что 3G-технология не стала локомотивом обновления информации на мобильных устройствах. Фактически она увеличивает скорость подключения, но в конечном счете узким местом в передаче информации является качество сотовой сети самих операторов. Лично мой телефон работает 3G всего в нескольких пятнах на территории России. Кроме того, могу сказать, что разница между действующей технологией EDGE и 3G не столь велика, чтобы стать причиной массовой смены дорогостоящего оборудования. I-phone люди у нас покупают не потому, что он 3G, а потому, что он красивый и удобный. Уровень продаж I-phone у нас значительно меньше, чем, скажем в США, однако это связано в основном с меньшей популярностью технологий Apple, под что он и заточен. Там Apple контролирует 8-9% рынка персональных компьютеров. У нас же их продается на порядок меньше, то есть менее 1%. I-phone — это, прежде всего, интеграция в целую систему, что американцы, в общем-то, и ценят. С другой стороны, уровень проникновения смартфонов у нас выше, чем в самой Америке. У них I-phone был первопроходцем, и отчасти поэтому там творилась такая истерика по его поводу. К нам же он пришёл значительно позже, практически на год. В результате сливки снять не получилось.
Ранее вы оговорились о правительственной инициативе по началу разработки электронной системы голосования на территории страны. Сколь вероятно воплощение в жизнь данной идеи?
Недавно центральная избирательная комиссия активизировала работу по разработке системы организации интернет-голосования в России. По словам одного депутата, данная инициатива может привести к возникновению в стране прямой демократии, а проведение референдумов станет легко осуществимо с технической точки зрения. При этом, такие изменения могут серьезно отразиться на функциональности представительных органов власти. Если «задумка» будет реализована, то власть и общество получат канал оперативного взаимодействия. Россия вполне может оказаться пионером на этом поприще, опередив США. Самой большой сложностью в обеспечении процесса интернет-голосования является не обеспечение точного учета проголосовавших, то есть того, чтобы человек один раз проголосовал только от своего имени, а конфиденциальность процедуры. Иначе говоря, сейчас ищутся пути решения того, чтобы властные структуры после выборов не знали, кто и за кого голосовал.
Недавно один калининградский интернет-портал подвергся массированной хакерской атаке. Кто несёт ответственность за предотвращение и расследование результатов такого рода нарушений?
Расследование правонарушений в сети Интернет находится в зоне ответственности управления «К» ФСБ. Хакерские атаки, нарушающие работу интернет-ресурсов, являются типичным проявлением такого рода правонарушений. Однако, фактически расследование этих правонарушений осуществляется далеко не всегда по причине невысокой штатной численности соответствующего управления. Я думаю, если бы руководители этого управления обратилось в вышестоящие органы, то они бы легко могли найти встречное понимание по расширению штатной численности. Вообще, сотрудникам интернет-сайтов самим рекомендуется обращаться в соответствующие органы с заявлением о хакерской атаке.
Как правило, основное внимание сотрудники данного подразделения уделяют расследованию более тяжких преступлений, таких как, например, распространение детской порнографии или организация террористических атак. Что касается атак на интернет-сайты, то, как правило, выявить источник их возникновения для сотрудников соответствующего ведомства достаточно легко.
Вы сказали о том, что сейчас профильный комитет работает над законом об инсайдерской информации. Что он будет из себя представлять?
Закон об инсайдерской информации призван разрешить целый ряд проблем. Например, существует определённый курс акций, и какой-либо человек - журналист или сотрудник компании - получил по своим каналам информацию о финансовом состоянии публичной компании, например, позитивную. После он купил пакет акций компании и опубликовал имеющуюся у него информацию. Соответственно, курс акций поднялся и этот человек их продал. То есть возникло недобросовестное манипулирование мнением людей. Кроме того, может оказаться, что информация была секретной или недостоверной.
Второй пример. Госслужащий владеет информацией о том, что скоро где-то начнёт строиться определённый важный объект, соответственно, он в том или ином виде начинает скупать участки, находящиеся неподалёку. Опять-таки, возникло недобросовестное зарабатывание денег. Сейчас такие вещи в России происходят направо и налево. Во многих странах такого рода законы действуют, например в США, где закон об инсайдерской информации очень жёсткий. В России такого закона нет, поэтому многие госчиновники на этом хорошо зарабатывают. Например, основой заработка сотрудников министерства финансов как раз и являются такого рода доходы. Новый закон призван это пресечь.
Другой вопрос, что проект закона настолько расширительно трактует доступ к информации, что сейчас, сидя перед вами, я разглашаю инсайдерскую информацию о планах комитета. Согласно той редакции закона, в которой он внесен в Госдуму, мы оба ответственны, и я вам вообще ничего рассказать не могу. При этом, не только мы, но и любой государственный чиновник или любой журналист. Понятно, как в реальности это будет работать. Когда кто-то кого-то попробует покритиковать, то трактоваться это будет уже как злонамеренное распространение информации с «умыслом повлиять на рынок», а потом неугодных журналистов посадят.
Против этого сейчас восстало все медийное сообщество, поэтому я надеюсь, что данный закон в том виде, в котором он внесен в Думу, нам удастся похоронить. Однако данный закон является частью антикризисных мер, и уже в весеннюю сессию, я думаю, он будет принят. 1 июля он уже должен будет действовать. Если общество будет сидеть и молчать, то его «продавят» в том виде, что он есть сейчас. Наша «Партия» же может принять любое решение, например, через окно в дом заходить. Потом все так и будут ходить.
Как вы оцениваете уровень развития местной Интернет-среды?
Уровень развития медийного рынка Калининградской области ниже среднероссийских показателей. Основной причиной сложившейся ситуации, как мне кажется, является относительно низкий уровень проникновения информационных технологий. С другой стороны, по числу работающих Интернет-сайтов Калининградская область находится в середине списка регионов. Кто у вас их здесь читает, я не знаю, но они есть. То есть Калининград — типичный середнячок. До лидеров далеко. Недавно в Ханты-Мансийске состоялась конференция, на которой Калининград приводился в виде негативного примера по уровню поддержки населением региона создания системы электронного правительства. Всего несколько процентов одобряют данную инициативу, а 80% категорически против. Мне кажется, так происходит из-за того, что руководство области мало внимания уделяет данной теме. С другой стороны, может быть, не все люди знают, что такое электронное правительство, и переносят свое отношение к власти в целом на данную технологию.