
«Лучше бы мы говорили о полетах в космос, чем о войне»
Издательство «Калининградская книга» готовит к переизданию архив писателя Юрия Иванова, члена союза писателей СССР, участника Великой Отечественной войны, автора романов «Танцы в крематории» и «Кёнигсберг в огне». В частности, выхода ожидает роман «На краю пропасти» о советских разведгруппах, действующих на территории Восточной Пруссии. Новое издание будет включать не вошедшую в первую версию главу, которую напечатают отдельно от основного текста романа. В преддверии переиздания архивов редактор «Калининградской книги» Александр Адерихин рассказал о том, зачем переиздавать книги о Второй мировой, почему в прозе Юрия Иванова картина боевых действий сильно отличается от того образа, который был принят в официальной советской культуре, и как понять, что боль наконец-то прошла.
Зачем нужно переиздавать книги о Второй мировой
К изданию готовится полное собрание сочинений Юрия Иванова. Издать планируется даже его письма. Это хороший калининградский писатель, и многие его тексты выходят за пределы Калининградской области. Те же «Танцы в крематории» или «Мы шли под грохот канонады» — у последней абсолютно советское название, но книга, которая спряталась под этой обложкой абсолютно не советская.
 По сути, есть два писателя Иванова: Иванов, который был до перестройки и Иванов после, когда уже можно было всё. И это абсолютно два разных автора и абсолютно разные тексты по своему содержанию. Он стал более склонен к каким-то экспериментам, более честен и резок в оценках. Например, его «Танцы в крематории» — это книга о войне с человеческим лицом. Но тут необходимо отметить, что это не то, что это какая-то «гуманная война», нет, она не гуманная, но у этой войны человеческие лица: немцы, наши, дети — это всё люди, которые взаимодействуют. В этом плане его постперестроечные книги становятся интереснее: они более тонки, более умны, более справедливы. Там нет такого стремления к черному и белому: вот есть они — враги, а вот мы — белые и пушистые. Мы все разные.
По сути, есть два писателя Иванова: Иванов, который был до перестройки и Иванов после, когда уже можно было всё. И это абсолютно два разных автора и абсолютно разные тексты по своему содержанию. Он стал более склонен к каким-то экспериментам, более честен и резок в оценках. Например, его «Танцы в крематории» — это книга о войне с человеческим лицом. Но тут необходимо отметить, что это не то, что это какая-то «гуманная война», нет, она не гуманная, но у этой войны человеческие лица: немцы, наши, дети — это всё люди, которые взаимодействуют. В этом плане его постперестроечные книги становятся интереснее: они более тонки, более умны, более справедливы. Там нет такого стремления к черному и белому: вот есть они — враги, а вот мы — белые и пушистые. Мы все разные.
Поиск неизданной главы повести «На краю пропасти» проходил не то чтобы драматично. Ты просто приходишь в архив: «Мне надо поработать с фондами Юрия Иванова, вот доверенность, вот документы». «Вот вам опись…». А в описи написано: «Письма № 2», «Письма разведчиков Юрию Иванову и его ответы». И была отдельная папка упакованная, на ней было написано: «Невошедшая глава». Она там лежала и была изъята. Была очень жесткая рецензия: книгу он начал ее писать в 1976, а вышла она только лет через 7, но еще до перестройки. Он от этой главы отказался, какие-то фрагменты были использованы в тексте, но сама по себе тема, которая там присутствует... Наш советский разведчик попадает в Кёнигсберг как раз во время английской бомбардировки. Сам герой из Ленинграда, пережил блокаду. С одной стороны, он радуется: «Суки, получите так, как мы!», а с другой стороны, видит, как маленькая девочка кричит: «Мама! Мама!» — и бежит по разбитому стеклу, а вокруг всё горит. И он понимает, что что-то здесь не так.
Я думаю, что главу изъяли именно поэтому: там немцы изображены как жертвы, которые тоже страдали. Причем мирное немецкое население. Глава будет напечатана в книге отдельно, ее нельзя включить в общий текст, она выпадает из общего ритма и сюжета. Но это самое жесткое и драматичное, что есть в этой повести про разведчиков.
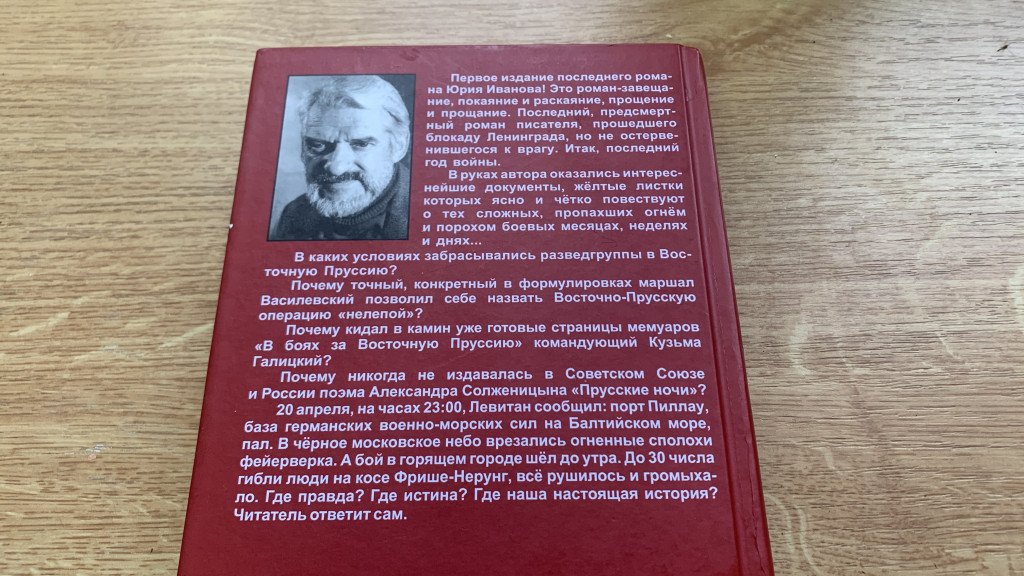
Не думаю, что эти люди [герои Великой Отечественной] сами бы нам простили, что мы делаем из них иконы. Когда я беседую с Борисом Петровичем Пирожковым (танкист, ветеран Великой Отечественной, за штурм Кёнигсберга награжден орденом Красной звезды. — Прим. ред.), почетным жителем Калининграда, который, смеясь, вспоминает, что если ты ложку в танке потерял, то можешь без обеда остаться. Потому что ложка на фронте — это важно. Для меня важны вот такие детали: как эти люди шутили друг над другом, как они жили. Они были людьми.
Или вот история некоего председателя колхоза в Калининградской области, который ужасно бухал. Его поведение разбирали на колхозном собрании и решили, что не знают, что с ним делать. Это выглядит, как такая смешная история, пока ты не узнаешь, что у председателя двое детей остались на оккупированных территориях, и немцы на Новый год повесили их на елке. И это уже совершенно другая история, это уже не анекдот.
Мне кажется, что Вторую мировую давно надо оставить историкам: пусть они разбираются, ругаются, вызывают друг друга на дуэль. Прошло очень много времени, у нас своих хватает травм. Давайте такие же правила применять к войне 1812 года: французы плохие, подадим на них в суд, чтобы они признали геноцид. Кому это надо? Сейчас это никому не нужно.
С одной стороны, сложно себе представить такой фильм, как «Гусарская баллада» в декорациях 1940-х годов. Но есть такой советский фильм «Крепкий орешек» — такая оперетта, где немцы — идиоты. Есть даже оперетта «Четыре танкиста и собака», собака играла в этой оперетте. Когда появляются такие вещи, то это говорит о том, что боль прошла.
Юрий Иванов — писатель, а не политик, и он имеет право говорить о подобных вещах. Имеет право так писать. Он через это прошел, прибыл в Восточную Пруссию в составе музыкально-похоронной команды (подробнее об этом в книге «Танцы в крематории» Юрия Иванова. — Прим. ред.), второй малый барабан. Как он пишет в своих воспоминаниях, команда больше копала, чем играла. В одной из рецензий его даже обвиняли в излишней физиологичности в его прозе. Он рассказывает, как правильно достать танкиста, сгоревшего в танке. Когда человек сгорает, он принимает «позу боксера», и через люк его не достать. И надо подрезать ему сухожилия… Для похоронной команды эти похороны становятся жизнью: да, они скорбят по этим людям, но они ищут место помягче, чтобы было легче копать, сначала хоронить остатки… Вот с этими деталями, этой физиологичностью это есть война. Как еще про нее писать?

В книге «Кёнигсберг в огне» он приводит потрясающую историю: папа Иванова был офицером политотдела. Он вместе с сыном приезжает во время штурма Кенигсберга вручить партбилет товарищу Иванова. Стоит артиллерийская батарея, отец спрашивает: "Где там, товарищ, мы ему партбилет привезли". Этот товарищ отвечает: «Не могу!» — у него руки грязные… Ему дают партбилет, он берет его в зубы и бежит дальше подносить эти снаряды. Потом немцы эту батарею накрыли. Отец подходит к убитым и видит, что этот человек так и лежит с билетом в зубах. Он пытается забрать билет, а у него голова осколком отрезана, он поднимает его вместе с головой. Это война, он это видел, и она не такая, как в советских фильмах, когда чистенькие солдаты сидят в окопах, которые они только что выкопали. В чистых подворотничках попробуй покопай.
Представьте, что для молодого несовершеннолетнего человека 4 года войны оказались жизнью. Он вспоминает, как в блокаду ему на день рождения подарили морковку. Он съел ее вместе с ботвой, а его облысевшая мать, которая не обращает на него внимания, потому что уже всё, пытается сжечь последний стол. Или как они с пацанами дают клятву «дойти до проклятой Германии и наказать», клятву надо скреплять кровью. Они начинают колоть пальцы, а кровь идет только у одного из них. У остальных из-за голода она не идет. Вот такая война.
У меня был конфликт с одним антисемитом, который меня ругал за Пальмникен (Александр Адерихин — один из авторов публикаций про пальмникенскую трагедию, более известную как «Марш смерти». — Прим. ред.): «Опять ты всё про этих еврейчиков!» Я даю ему книгу Иванова и говорю: «Вот, пожалуйста». «Нет, не буду. Жестко». Такую войну мы не хотим обсуждать и вспоминать.

Как устроена память
С удивлением недавно узнал, что самая продаваемая книга в «Калининградской книге» — это «Восточная Пруссия глазами первых переселенцев». Интерес к такой литературе есть, но вопрос в том, какой это интерес? Пришел человек, который понабрал книг, а потом сказал, что «эту брать не буду, там про Сталина плохо пишут».
Я знаю, что есть много литературы о «попаданцах», что она издается нормальными тиражами, но это не моя тема. В архиве я нашел дневник одной из разведчиц, который она вела перед засылкой. Это потрясающий документ: там очень мало про подготовку, это такой милый девичий дневник, история любви. Она радистка, работает на ультракоротких волнах. Дневник написан таким образом: «Сегодня на практике он передал мне “88”, я ответила ему “73”». «88» — это на радистском коде поцелуй, «73» — всего вам хорошего. И она в таком духе: «Мне говорят, что надо сделать ему “99”, чтобы он вообще ко мне не приставал». Потребовалось много времени, чтобы найти эти коды. Дневник очень милый, но это тоже война: она подорвала себя гранатой в Восточной Пруссии. Она пишет про своих мужиков, про настоящую любовь, ей 19-20 лет и вот всё, что осталось, — это этот дневник.

С подобной темой памяти столкнулись в Германии. Например, у них есть ведомство, которое работает до сих пор: ведомство при прокуратуре ФРГ по изучению преступлений нацизма. Это такая архивная структура, которая до сих пор выискивает преступников. Ведомство начало работать в 1958 году. Человеку, который его возглавлял, выдали оружие (поступали угрозы), сотрудникам нельзя было говорить таксисту точный адрес, куда они едут (нужно было называть адрес больницы, которая находится рядом), потому что общество их не принимало. Когда мы там были, прокурор готовился к процессу над 95-летним стариком, которого в ФРГ должен был судить суд по делам несовершеннолетних. Потому что, когда ему было 16 лет, он был охранником в одном из лагерей. Я спросил: «Зачем? Это уже другой человек». «Да, другой, но они должны знать о неотвратимости наказания». Это к вопросу, как устроена память в других странах.
У России, как все знают, свой путь. Один высокопоставленный офицер КГБ рассказывал мне, как после 1991 года контора столкнулась с гигантским количеством доносов на людей, которые мешают «развиваться демократически». Ну вот так привыкли: да, демократия, да можно всё, но вот этот нам точно мешает!
В Калининграде тема памяти накладывается еще и на краеведческую историю. Историки раньше шутили, что в Калининграде история начинается после 1945 года. И это тоже не так, потому что в той истории, которая начиналась после 1945 года вообще «не было» немцев. Но есть потрясающая история немецко-советских браков: население Кёнигсберга было разделено бомбежками, смертью близких, пытками, смертью близких, пропагандой. Но вот они начинают вместе жить, влюбляться, заводить детей. Знаю несколько семей в Калининграде, которые считаются русскими, но на самом деле их бабушка осталась здесь и вышла замуж за советского офицера. У нее к тому моменту было трое своих детей, и она ему, «своему Васе», как она его называет, родила еще троих.
История в определенные времена подсудная… В калининградском архиве масса документов о товарищеских судах офицерской чести, когда советского врача, закончившего Сорбонну лишили всех орденов и погон.

Попытка вернуться в прошлое или либо переставить акценты, либо, наоборот, подтвердить, что акценты были поставлены правильно, показывает некую болезненную невротичность общества. Я бы процитировал здесь историка Романа Широухова: «Когда в настоящем у общества очень много прошлого, то остается мало места для будущего».
Мне, кажется, что историю нужно оставить историкам и немножко писателям. Но какие-то юридические ограничения я бы убрал: пусть люди обсуждают и высказывают свое мнение. Для этого, конечно, надо открывать архивы. Даже открытые материалы, которые есть по послевоенному Калининграду, — это история в духе: война кончилась в 1945 году. Не кончилась она в 1945 году. Ее последствия продолжались, она продолжалась в головах, в травмах, в изуродованных детях, в побегах от того ужаса, который люди пережили. В каком-то смысле она достала и до нашего поколения. Понятно, что государство должно выращивать какую-то идеологию. Но мне кажется, что лучше бы мы говорили о полете в космос, чем о войне.
Фото: Анатолий Бахтин (предоставлена собеседником), "Калининградская книга" (предоставлена собеседником), RUGRAD
Поделиться в соцсетях
